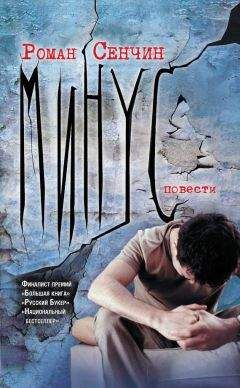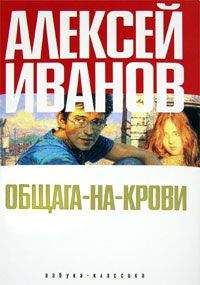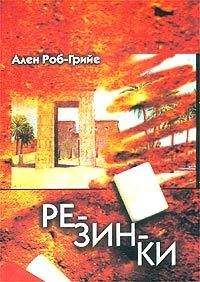P. S. Пожалуйста, одевайтесь с Алешей теплее. Говорят, что сегодня ночью было за тридцать. Любимый, не могу дождаться, когда мы вновь будем вместе!»
Тянет изорвать, выкинуть эти листочки, завыть, побежать к телефону и молить о прощении… Не завязывая тесемок, швыряю папку обратно в тумбочку. А на глаза попадается другая, темно-зеленая. Ее содержимое я ценю не меньше своих собственных публикаций. То, что в ней, — удерживает от воя, истерик, мольбы, заставляет барахтаться, заставляет стискивать челюсти и бороться. И я хватаюсь за нее, вытаскиваю, кладу на свой просторный письменный стол… Перед тем как раскрыть — выпиваю еще. На этот раз не закусываю. Без закуски скорее подействует…
Как всякому нормальному, мне нравятся положительные отзывы. Тем более когда они с аргументами, с элементами философии, параллелями из истории литературы; приятно, если меня сравнивают с Чеховым или Достоевским, на худой конец — с Маканиным. Но для того, чтоб ощутить, убедиться, что я действительно чего-то стою, чтоб продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь и из-за чего живу так, как живу, я читаю ругательные слова о себе и своих вещах. Это подстегивает лучше всего.
И, как самый захватывающий роман, как самую невероятную новость, я пожираю глазами сто раз читаные-перечитаные строки из газет, журналов, из Интернета. Даже о комке забываю (или он исчезает?) — дышится без усилий, дышится глубоко и свободно.
«Правда Сенчина банальна: весь мир — дерьмо. Выхода нет, нет даже света в тоннеле, он давно пропал. Одна темная ночь без конца и без краю. И дело даже не в позитиве, об отсутствии коего так кручинилась одна критикесса, куда более страшным является полнейшее отсутствие какой-либо нравственной позиции у самого автора. Хотите убедиться — полистайте хотя бы рассказ „Первая девушка“. Внимательно читать не советую — можно отравиться».
Именно — «отравиться»! Если читатель может отравиться, то каково автору… А вот настоящий шедевр из папки:
«…На том редакционном собрании я говорил не как завотделом критики, а как рядовой читатель, которого просто физически мутило от сенчинской прозы. Вот не люблю я, скажем, Сорокина, но вполне спокойно и холодно его читаю, сознавая: это игра такая, иногда забавная, иногда скучная. А от рассказа Сенчина отчетливо шибало серой, там воистину чуял я присутствие врага рода человеческого».
Что может быть лестней, когда тебя ставят выше самого вредного нынче писателя и утверждают, что ты рупор адских сил? Чем-то булгаковско-гётевским веет… Плескаю в рюмку и выпиваю уже с удовольствием, шумно выдыхаю, закуриваю окурочек «аполлонины».
«Собственно, вся правда и весь пафос Сенчина — это „мордой в грязь“ и „мордой в стол“. И так на четырехстах страницах его книги „Афинские ночи“. И это зловонное дыхание, идущее от написанных им страниц, почему-то выдается за реализм! А читающаяся столь явно тоска его героев по телевизионно-рекламному стандарту жизни, страсть почувствовать себя хозяевами жизни, предпринимаемые потуги к получению наслаждений незаметно делают свое дело, являясь скрытыми ценностями автора».
Хм, а кто не хочет наслаждений? Кто против телевизионно-рекламного стандарта жизни и того, чтоб стать ее хозяином? Да любому сунь сладкий кусок — проглотит без размышлений и облизнется. Просто об этом не пишут. Точнее — так откровенно не пишут. А я — пишу.
«И этот писатель определяет поколение? Писатель, рассказавший о первой любви к первой девушке через акт гнусного насилия над ней, в коем и сам „возлюбленный“ принимает самое скотское участие. — Блин, в том-то и дело, что не возлюбленный, а влюбленный, а это прямо противоположное, и из-за этого все именно так получилось! — Писатель, знающий только гадливо-отвращающее чувство к женщине (будь то мать, подруга, возлюбленная). Писатель, у которого нет ни веры, ни любви, которому отвратителен сам человек, — и будет представлять молодую прозу в качестве ее флагмана?!»
Стою перед окном, скрестив на груди руки. Свет в комнате снова выключен, и окно — как огромный экран. Дерево, дом, телебашня, еженощное зарево огромного города. Там клубы, наркопритоны, мюзиклы, проститутки по любым ценам, отделения милиции, миллионы семей, и везде черт знает что происходит.
И чего я страдаю? Зачем трачу драгоценное время, теряю энергию на переживания, на самобичевание, что живу не как большинство? Судьба дала мне несколько лет семейной радости, дочку, взаимную любовь с красивой женщиной. Дала, а потом забрала. Значит, так надо. Ведь мое назначение не в этом, я здесь не для этого. Да!
Дым зажатой в углу губ сигареты щиплет глаза, но взять ее в руку не хочется. Страшно переменить позу, разрушить настроение… Да, надо писать, а не размениваться на общечеловеческие удовольствия. Писать, двигаясь, постепенно двигаясь вперед и вверх. В трех ведущих литературных журналах ждут мои новые вещи, даже противники, скрежеща зубами, признают, что я флагман молодой литературы. Они хотят другого на эту роль? Ну, пускай кто-то с такой же силой напишет о чем-то духовном, выведет нравственного персонажа. Но живого. Живого! Где вы, нравственные, ау?.. Да, да, надо писать. Вот ведь Москва — бурлит, извивается, пестрит, завывает, а я о ней еще почти ничего не сказал. Все наблюдаю, готовлюсь и не решаюсь. Даже я — я! — боюсь всей правды. Но я сделаю. Да. Надо хорошо выспаться и приступить. Это моя работа. Судьба. Я буду монахом. Монахом литературы. Лет десять назад я услышал в какой-то передаче слова какого-то теоретика: «Чтоб объективно показать процессы сегодняшней жизни, писатель должен стать кем-то вроде монаха. Он должен быть в стороне от хаоса и пожирающей остальных суеты. Он должен стать монахом литературы». Помнится, тогда я — двадцатилетний — посчитал это за выпендреж псевдоумного оригинала, а сейчас понял. Да, так и надо. Только так и надо. К черту вымучивать «ИНН». Завтра возьмусь за настоящее. Отдохну, высплюсь, куплю новую тетрадь и приступлю.
Кирилл вернулся из свадебного путешествия, позвонил. Я как раз торчал на работе, внимательно и без эмоций вычитывал заверстанные статьи Синявского. Звонок, как повод отвлечься, обрадовал.
— Привет! — сказал я. — Ну, как Париж?
— Слушай, это не телефонный разговор. — Голос приглушенный — наверное, говорил из офиса, где сидит вместе с еще четырьмя сотрудниками. — Сплошная оказиональная лексика.
— В смысле?
— В смысле восторга. Давай встретимся, поговорим… Я сегодня смогу пораньше освободиться.
— Хм, — я усмехнулся, — да что ты!
Кирилл пропустил иронию мимо ушей:
— Часов в пять где-нибудь в центре. На Пушкинской, например.
— Можно и на Пушкинской.
— Значит, в пять возле памятника.
— Где пидарасы тусуются? — Людмила Николаевна как раз вышла из кабинета, и я мог говорить не стесняясь.
— Ну, тогда на другой стороне, где часы.
В пять вечера я бродил под огромным, на высокой трубе, кубом часов. Кирилла не было. Набрал его номер на сотовом, но в ответ: «Абонент недоступен». Блин, вечно динамит… Неподалеку «Макдоналдс», где я ни разу ничего не пробовал. Бывал, ясное дело, — там туалет бесплатный, и даже бумага есть (в пору бедности я ее иногда воровал), несколько раз мы пили в этом «Макдоналдсе» на втором, укромном, этаже…
Не считая глазуньи из двух яиц на завтрак и шаурмы часа в два, я сегодня не ел. Надо бы перекусить, тем более что Кирилл, конечно, предложит долбануть водочки.
Вокруг «Макдоналдса» устойчивый, знакомый мне с первого курса (наш Литинститут от него в сотне метров вниз по Большой Бронной) дух коровьего хлева. Но внутри запах иной — вкусный, словно здесь распылили несколько литровых флаконов духов.
Народу — битком. Возле прилавка извилистые змееобразные очереди. За столиками — прикупившие пищу счастливцы. Юноши и девушки с просветленными лицами, в черных бейсболках и черно-желтых (в крапинку) рубашках шустрят там и сям — убирают подносы с остатками кушаний, протирают пол красивыми швабрами… Озираюсь, решая, занять очередь или перетерпеть. Рядом сидят две девушки, беседуют, то и дело вынимая пальцами из пакетиков золотистые бруски картошки фри и, макнув их в сосудик с соусом, отправляя в рот.
— Знаешь, он совсем обнаглел, — жалуется одна, темноволосая, но с такой светлой, нереально чистой, кукольной кожей на личике, что тянет смотреть и смотреть, любоваться, — вчера, представь, заявляет: ты слишком много потратила за эту неделю, будь поскромней. И тут же спать со мной лезет. Я его, разумеется, послала, где раки не ночевали.
— Правильно, — поддерживает вторая, с бесцветной щетинкой волос на маленькой голове, худая и изможденная, страшная, но явно опытная во всех отношениях. — Они, козлы, дай им волю, и на гондон не расщедрятся. Держать их надо знаешь как…