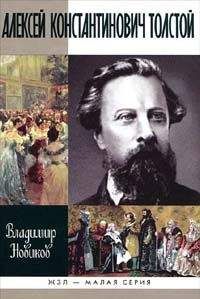Чувство гармонии, по слову Блока, неотъемлемо присущее поэту, не отдаляет бездны и, увы, не является залогом бессмертия. Наверное, в свободном плавании без компаса не обойтись.
Иногда она предельно точно, «без затей и без загадок», объявляет свою позицию. Как в стихах о непогоде — зримых и убедительных.
Разгулялась непогода,
Все стонало и гудело
В царстве полного разброда.
Лишь разброд не знал предела.
Все стонало и кренилось
В этом хаосе дремучем…
На ветру бумажка билась —
Кто-то почерком летучим,
Обращаясь прямо к миру
Без затей и без загадок,
Написал: «Сниму квартиру.
Гарантирую порядок».
Прямое обращение к миру может позволить себе тот, кто отвечает за свои слова. Кто бьется, но не подчиняется стихиям. Бумажка… Слово-то какое уничижительное… Клочок надежды. А он и есть центр кренящегося мироздания. Если что-то может спасти мир, то только личное противостояние хаосу — в себе, в своем, на время арендованном, теле.
Ее поэзия устремлена к диалогу, она настроена слушать: «Ты другого мнения? / Выскажи его». Диалог, часто внутренний, заполняет стихотворение целиком. Среди собеседников присутствует самый… авторитетный, самая, так сказать, высокая инстанция. Правда, присутствует инкогнито, безответно, «молчание храня». «Досадно, Господи, и больно, / Что жизнь Тебе не подконтрольна. / Она течет невесть куда»… Безучастность делает Его неким эфемерным адресатом, о котором можно сказать, что он вообще «устал» и что «его уж нету»… В таком случае, присутствует ли?..
Мало кто сегодня сомневается в Его бытии — да, есть, да, сотворил Вселенную, Землю и прочие объекты, но я Ему до лампочки, иначе откуда столько крови и ненависти?! Так оправдывает себя дуалистическое мировоззрение. Двойственность его подметил Г. Зиммель, исповедовавший философию жизни и размышлявший о трагедии творчества: «В глубине нашей души кроется, очевидно, некоторый дуализм, который, не позволяя нам воспринимать картину мира как неразрывное единство, постоянно разлагает ее на целый ряд противоположностей».
Но в поэзии Миллер преобладает иное мироощущение. Она в постоянном поиске адресата, местонахождение Которого (если можно так выразиться) для нее сомнительно. И тем не менее она ждет отклика именно от Него. Напряженное ожидание чревато безотчетной тревогой и даже отчаяньем: «Дело, кажется, пахнет психушкой».
Блаженный Августин согласился бы с таким выводом. В молодости он пережил сходные настроения, пока не услышал призыв свыше. Как подходят его слова к нашей сегодняшней клинической ситуации: «Ты создал нас для Себя, и мятется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе». Успокоиться — не значит бездействовать, а самораскрыться в обретении подлинной свободы и воли. Не об этом ли мечтал в конце жизни Пушкин?..
Есть и другой непроявленный адресат: множественные местоимения — они, их…
Хоть бы памятку дали какую-то, что ли,
Научили бы, как принимать
Эту горькую жизнь и как в случае боли
Эту боль побыстрее снимать.
Еще:
Как жаль, что всех отправят,
Куда Макар телят…
………………………..
Под этой кровлей яркой
Еще подержат нас…
Дадут, поднесут, отправят… Кто — ОНИ? Кто эти злосчастные фантомы, на которых можно взвалить наши беды? Вообще-то Миллер не из тех, кто ищет козлов отпущения. Но эта обезличенная обобщенность как-то соотносится — может быть, полярно? — с Тем, к Которому взывает душа, жаждущая ответа.
Однако — вернусь к мелодическому равновесию. Стихи раскрываются, как фортепьянные пьесы, — с их единством настроения и содержания. В малом объеме, в многомерном чувстве — философская глубина. Теза перекликается с антитезой, антифон с антифоном. Диалог динамичен.
Мировоззрение художника может быть абсурдным, настроение крайне неустойчивым, но выраженные художником, они сбалансированы, оправданы средствами искусства. Благозвучие оправдывает содержание и каким-то непостижимым образом обогащает его.
Александр ЗОРИН.«Богу дописать стихотворенье»
Владимир Смоленскiй. «О гибели страны единственной…». Стихи и проза. М., «Русский путь», 2001, 286 стр., ил
Епископ Игнатий (Брянчанинов) приводит в своих «Аскетических опытах» такой поучительный разговор: «Пимен: Монах должен постоянно иметь в себе плач… Все житие монаха — плач… Плач составляет поучение (душевное делание, душевный подвиг) инока. Я отвечал: Когда я в келии, тогда плач пребывает со мною; если же кто придет ко мне или я выйду из келии, то уже не обретаю его. Пимен: Это оттого, что плач не усвоился тебе, но как бы дан взаймы… Если человек потрудится всеусильно о стяжении плача, то обретает его в служение себе, когда захочет».
Можно долго спорить, какое место на Парнасе русской литературной эмиграции занимает поэт Владимир Смоленский (1901–1961), сравниваемый по звучанию своей лиры с Георгием Ивановым и Борисом Поплавским, а сам называвший первым среди своих учителей Владислава Ходасевича. Эта книга, любовно, но, увы, без должного историко-литературного комментария составленная Виктором Леонидовым, впервые дает полное представление о его поэтическом творческом пути. И она открывает беспримерный опыт усвоения неотвратимого, хотя и отнюдь не монашеского плача в процессе его очищения от случайных житейских наслоений.
Жизненный путь юноши, ставшего белогвардейцем после того, как большевики на его глазах расстреляли отца, выражен с немногословной пронзительностью и эпической емкостью.
Над Черным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.
Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.
Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом,
И Ангел плакал над мертвым ангелом…
— Мы уходили за море с Врангелем.
Рядом с этим стихотворением — другое, в котором поэт как бы отрывается от своей и поколенческой биографии, где исторический опыт становится поэтической мудростью:
Есть яма, которую ты не минуешь;
Есть губы, которые не поцелуешь.
Далекая лира, которою бредишь,
Отчизна, в которую ты не доедешь.
Над горем, которому нету начала,
Над счастьем, к которому нету причала,
Горит в небесах, утопая глубоко,
Недвижное, страшное Божие око.
Именно ему (на два года младше Набокова) дано было в своих парижских «Стансах» выразить емкую поэтическую формулу русской культуры. Сначала в «виденье сонном» является архитектура «четырех белых колонн». А в итоге звучание «всей России» целиком претворяется в бытие «ямба торжественного»:
Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом —
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.
И ласточек крыла косые
В небесный ударяют щит,
А за балконом вся Россия
Как ямб торжественный звучит.
В «Элегии» он формулирует некую меру мировой вертикали: «Пушкинским стихотворением / Пролетает высота». Дано было ему показать и во многом пророческую картину нового мирового порядка, когда «тесной станет земля, как тюрьма», и возобладает «знание», что «ни Бога, ни ада, ни вечности нет».
И когда зазвенит над кружащимся миром труба,
И когда над землей небеса распахнутся как
двери,
И погаснут огни, и откроются в склепах
гроба —
То никто ничего не поймет и никто не поверит.
И все же большая часть стихов Смоленского выражает не эпические, замкнутые или опрокинутые в будущее формулы, а экзистенциальное и истинно диалектическое погружение автора в свои душевные глубины.
Как сердце взволнованно бьется
В ответ на чужое биенье,
Как звезды сияют чудесно
В ответ на сияние глаз —
Но сердце твое разорвется
И станет добычею тленья,
И звезды, в пучине небесной,
Погаснут в назначенный час.
И будет одна иль другая
Судьба у тебя в этой краткой,
Бессмысленной жизни — в итоге
Все судьбы пред смертью равны.
Безжалостна правда земная,
Беги от нее без оглядки
В мечты о бессмертье и Боге,
В безумье, в поэзию, в сны.
То менее, то более острое чувство неотвратимости своей смерти стало для поэта каждодневным личным Апокалипсисом. Выражая его, автор порою впадает в душевное кокетство («Как медленно я умираю…»), порой готов пожертвовать «жалким бессмертьем» за земную «каплю света» (ведь будто бы «пуста / Над миром ледяная высота»), порой отождествляет лежанье в постели с лежаньем в могиле, а порой умудренно заявляет, что «смерти нет» вообще. В итоге возобладало понимание призрачности именно этого, посюстороннего мира.