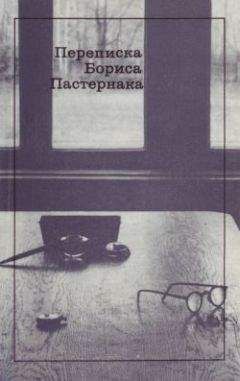Хочет выйти — и не выходит. Может, чувствует, что писать ему тогда скорей всего станет много трудней? Сейчас-то он всю свою безудержную энергию выплескивает с ходу — вон его «собеседник», всегда под рукой.
А может, причина совсем в другом, более глубинном? В период, когда писались и выходили его первые, еще «благополучные», книги[86], тоже шло накопление поэтического потенциала. А распорядился им — не поэт, распорядилась — судьба. Да еще взяв с поэта непомерную плату. Плату за все то, о чем я — так восторженно — готов написать в своих о его поэзии впечатлениях. И, может, теперь, боясь очередного вмешательства извне, поэт этой своей манерой попросту пытается очертить спасительный для себя круг? Не оттого ли и поэзия «Разговоров» кажется замкнутой на самой себе? Тогда особенно радуешься каким-то «случайным» в ней вещам, таким, например, как «Холмы в Эгенбога: сухая ржа по черни…» или «Ветеран легиона с вонючей от лямок спиною…».
Но действительно ли спасителен для слабого человека (это формула, человек — всегда слаб) очерченный им подле себя круг?.. Не знаю. Не уверен…
И дело даже не в том, что в нашем случае этот круг пытается замкнуть в неких пределах не только самого человека, но и данный ему в распоряжение дар Божий, отчего и дерзость стихотворца становится еще более горькой. Просто спасает — вообще не круг.
Есть другой символ. В стихах Русакова его почти не встретишь (и хорошо, походя-то и ни к чему). Но… если встретишь, то обязательно в минуту очень болезненных для автора содроганий.
Я, господи, устал. Укороти мой путь.
Возьми меня к себе и погляди налево:
там, руки положив крестом себе на грудь,
любимая глядит без горечи и гнева.
…Отмучилась. Ушла. Освободилась.
Нательный крест забыла на столе.
Неужто смерть и впрямь у бога — милость,
оставленная лучшим на земле?..
И даже так, в канве признания — в минуту растерянности:
…Такой нелепый дар — реветь по пустякам,
дыхание терять и сердцем обрываться,
как будто я тянусь к родительским рукам,
а позже — будто мне бессмысленные двадцать…
Чтó он, когда народ восстанет на народ
и будет помечать крестом чужие двери,
и снова на земле наступит день сирот,
взыскующих от нас по мужеству и вере?
И вот эта болезненность, где-то подсознательно доводящая почти до неприязни (уже не игровой) к Создателю, как бы внушающая поэту, что антитезой небытию встает не слабая, эфемерная любовь, а живые, страстные гнев и горечь; болезненность, обращающая символ Спасения только в знак конечности земной человеческой жизни, — есть самое трудное из всего, о чем я думаю, принимая поэзию дорогого мне, не всегда всеми понимаемого поэта — Геннадия Русакова.
…Но иногда, вместе с чисто поэтическими отблесками явственного дара, из этого круга пробивается Свет. Это случается тогда, когда поэт, на время освободившись — не от крестной памяти, нет, а только от стянувшейся вокруг нее удушающей петли, — вдруг замечает, что кроме его личной боли в мире есть не только еще что-то, но и — кто-то.
…Все, кто может, — простите. И ты, моя поздняя доля.
Пусть лицо твое светит, когда мое солнце умрет.
Пусть стоит надо мною у кромки последнего поля,
на котором я, помню, уже умирал наперед.
Свет этот неярок и необилен, даже скуповат, но главное, что он все-таки пробивается. Потому что все, что успевает заметить взгляд поэта, видит он — только с любовью. Потому что иначе он не может. Потому что…
Ну, есть потому что Бог, есть!
Владимир ЦИВУНИН.
Сыктывкар, Коми.
Страшное и сентиментальное
Репетиция. Пьесы уральских авторов. Екатеринбург, Уральское издательство, 2002, 460 стр
Быть учеником Николая Коляды — хорошо. Коляда создал на Урале не просто собственную драматургическую школу с явственно ощутимыми традициями, но и инфраструктуру, позволяющую даровитым екатеринбуржцам выходить на свет, быстро менять местную известность на широкую, общероссийскую. Николай Коляда щедр: не переставая успешно выдавать собственную творческую продукцию (для справки: к настоящему времени Колядой написаны 70 пьес, у Островского их было 48, у Шекспира — 37), он «обустраивает» первые шаги карьеры для своих подопечных. В каждом интервью не забывает замолвить словечко об учениках, на собственном сайте вывешивает их пьесы, распространяет тексты по театрам. Не человек, а литературное агентство. Сказывается и коренное русское радушие, и сентиментальность театрального человека из провинции, выбившегося в разряд самых востребованных отечественных драматургов, и «отеческая» ответственность. На самом же деле есть и более глубокая причина литературного радушия. Все проще… и все глубже.
Дело вот в чем. Коляда не верит в это привычное театроведческое утверждение: дескать, драматург опережает развитие драматического искусства и предлагает консервативному искусству театра пути развития. Как ни скажи, суть его «системы обучения» остается той же: драматург может состояться только в театре и никогда — на бумаге.
Коляда тащит своих учеников в театр, в буквальном смысле слова «забрасывая» их в жизнь — сразу «в люди», минуя стадию «университетов». Умеющий плавать да выплывет, не умеющий — просто не станет драматическим писателем, профессионалом, настроенным работать с театром, а не писать для него. Николай Коляда верит в то, что театральная практика «замажет» любые драматургические недостатки. Для него, если угодно, вообще не существует понятия законченной пьесы — любой текст требует сценической доработки. Драма — прикладной жанр. Со сцены она лучше звучит, чем выглядит на бумаге. В жанре «драмы для чтения» ни сам Коляда, ни его ученики не работают. И вот логичная новость последних месяцев: в Екатеринбурге создан «Коляда-театр», в котором будут идти пьесы мастера и его учеников.
После такой преамбулы банальное название сборника «Репетиция» начинает играть разноцветьем красок. Писать пьесу — значит уже начать ее репетировать. Для Коляды — актера и режиссера — это очевидно.
Пьеса, давшая заглавие книге, принадлежит перу Ольги Бересневой. И этот интересный текст, быть может, максимально приближен к «основным параметрам» школы Николая Коляды. Режиссер и актриса (конечно, любовники) в пустом театре репетируют пьесу. Текст — не сказать чтобы стихи в прозе, но отменно ритмизированный диалог. Речь мягко плывет и стелется, и оттого нервный процесс репетиции оказывается гармоничным и идилличным. В театральные репетиции вклинивается личная жизнь, сюжет пьесы замещается реальными взаимоотношениями. Театр становится реальностью, реальность — театром, и в этом глубоко естественном для Коляды и его учеников соединении конфликт оказывается соположен душевному покою. Жизнь и сцена сливаются в одну протяженную историю противоречивых человеческих отношений.
На обложке книги изображен пустой театральный зал, на который сверху, из-под плафона, где должна бы находиться люстра, выливается поток грязи. Графика принадлежит постоянному соавтору Коляды, сценографу Владимиру Кравцеву. Его рисунок, вероятно, должен напомнить, что мы имеем дело с так называемой «чернухой» в театре. И таких пьес — жестоких, неприглядных и «варварских» — здесь большинство: это и «панковские» зарисовки Евгения Леончука «Die Mдuse», и «Занимательная арифметика», и тексты Василия Сигарева, и его «эпигон» Татьяна Филатова с текстом «Торс лысого кучера», и пьеса Надежды Колтышевой «Ментовская новогодняя».
Модный теперь и самый известный ученик Николая Коляды Василий Сигарев представлен уже многажды прославленным текстом «Пластилин», поставленным в двух театрах Москвы «Черным молоком» и текстом «Фантомные боли» — о нездоровой девушке, которая пережила гибель любимого человека и ищет замещения своей «фантомной боли».
«Пластилин», если угодно, — знак новой волны в современной драматургии. Писателю удалось совместить очень «прозападную» форму письма, берущую исток в экстремальном европейском кино (рваная, дискретная инфраструктура мелко-мелко нарезанных сцен, действующих на зрителя как ослепительные фотовспышки), моду на ядовитые, злобные, душераздирающие тексты о жуткой беспросветности бытия и отличное знание российского провинциального контекста. В заводском уральском городе прозябает подросток Максим, тинейджерской грубостью и отменным сарказмом отвечающий на возмутительную тупость окружающей жизни. Но парню, так и не успевшему осознать свою особость, в этом мире не выжить. И он погибает, успевая по-своему отомстить негостеприимной жизни и проклясть ее на веки вечные. С помощью пластилина и олова он вылепливает для своих врагов огромный фаллос, чтобы послать их всех куда следует. «Пластилин» — это ужас российской глубинки и патологической глубины в ожесточенных сердцах. Картины «Пластилина»: подлая школа, плюющая в души детей; родители, бросающие чад на попечение еле живых бабушек; нищета и отсутствие перспектив на будущее; беглые солдаты, использующие мальчиков «по назначению»; попустительство милиции — словом, простой кромешный ад привычной всем жизни. «Пластилин» — прорыв не только в общем контексте современной драмы, но и прорыв для Василия Сигарева. Остальные его тексты более чем традиционны, впрочем, не теряя от этого искренности и качества. Сегодня они вызывают правомерный интерес у театров. Но если «Пластилин» призвал себе на помощь адекватную экстремальную режиссуру Кирилла Серебренникова, то «Черное молоко» и другие пьесы Сигарева — скорее удел режиссеров с сентиментально-ностальгическим настроением (Сергей Яшин и Марк Розовский в Москве). Начинают ставить Сигарева и в антрепризах. В этом году он самый популярный драматург.