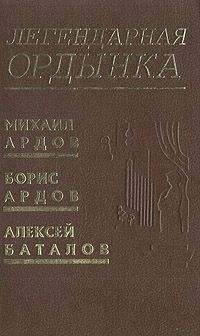Такая картина возникла перед его глазами, пока он передвигал пешки на шахматной доске, не слишком стараясь сосредоточиваться на тонкостях тактики, направленной на то, чтобы не нападать и чтобы позволить игре продолжаться как можно дольше. Время от времени какая-нибудь пешка исчезала, уносимая рукой сидящей перед ним маленькой пери, которая казалась облокотившейся на облако. Иногда брал и он, но предварительно поколебавшись, полагая, что так будет приличнее, и не отдавая себе отчета, что он и в самом деле колеблется.
Картина сменилась, и теперь он видел себя уже не на сцене театра в стиле барокко, а в будуаре в стиле рокайль, смирно сидящим напротив старого опрятного господина, — маленькие лацканы, крахмальный отложной воротничок, — ничем не отличающегося от тех на три четверти мумифицированных великих миллиардеров, которые приезжают доживать свои последние дни в отелях. Причем он, естественно, не знал, кем является этот почтенный старик, — хотя практически родился на принадлежащей ему земле, — этот старик, точными жестами передвигающий фигуры и постреливающий в него бликами своих очков. Вопреки всем предположениям, вопреки всему тому, что казалось нормой обычным партнерам Тобиаса, преимущество в партии принадлежало не ему, и он отнюдь не загнал Арама в тупик. Удача теперь была не на его стороне. Иначе и быть не могло. Выигрывала судьба. Иными словами — молодость. Как на заре человеческой истории. Благодаря некой слепой необходимости, которой ничто, никакие расчеты не могут преградить дорогу.
И вдруг у Арама создалось впечатление, что что-то произошло, что свершилась точно такая же перестановка исходных данных. Он был Тобиасом и оказался загнанным в одну из тех абсурдных позиций, в один из тех смешных капканов, избежать которых было бы под силу любому обладающему некоторым опытом игроку. И если исключить предположение, что он с самого начала предвидел подобный конец и сознательно вел партию к этому тупику, к этой дилемме, оба варианта решения которой заканчивались для него катастрофой, если исключить подобную антитактику, ведущую в конечном счете к поражению своего собственного короля, то все происходило так, словно знание правил, — равно как и совокупность методов их применения, — и вся когда-то приобретенная, а затем на протяжении многих лет обогащаемая наука вдруг взяли и исчезли, а он остался тут, не зная, что предпринять, не зная даже, в какую игру играет, внезапно утратив и свой гений, и свое везение.
Он был один. Девочка исчезла, покинула его без единого слова, без объяснения, без слов благодарности или извинения. Совсем как когда-то он покинул Тобиаса, оставив его наедине со своим крушением, в глубине того будуара в стиле рокайль, где великий человек, основатель империи, размышлял над своим поражением. Если, конечно, Тобиас не благословлял в победе этого ребенка, которого он видел разгуливающим по сцене с завязанными глазами, нечто вроде сигнала, нечто вроде приглашения отойти в сторону и уступить место.
В тот момент, когда все произошло, Арам воспринял случившееся вполне нормально. Без грусти и горечи. Гораздо менее трагично, чем виртуоз, видящий, что клавиатура уже не подчиняется его пальцам, или художник, обнаруживший, что теряет зрение и перестает различать цвета.
Другие до него прошли через это. И чтобы жизнь продолжалась, чтобы то, что будет, прорастало в том, что было, нужны подобные дети с предначертанием. Так, должно быть, говорил себе Тобиас после того, как ему выпала решка. Было бы смешно с его стороны сетовать.
И все же то, что сейчас произошло, то, что с ним сейчас случилось, не могло не вызывать удивления. Чемпион всегда склонен воспринимать с недоверием, когда его низвергают с пьедестала, прогоняют с подиума, лишают абсолютной привилегии утверждать свое мужское достоинство, укрощая противника и неизменно одерживая победу. Если бы он дал себе труд поразмышлять на эту тему, то вспомнил бы десятки подобных историй; кстати, как раз его дорогой Морфи в двенадцать лет нанес поражение одному французскому мастеру, а в тринадцать — венгру Левенталю — да, десятки неприятных приключений такого же рода, когда какой-нибудь оказавшийся не в форме Голиаф вдруг получает прямо в лоб выпущенный из пращи камень, причем от малыша, от которого можно скорее ожидать, что тот лишь покажет язык.
Однако он больше не был чемпионом и уже давно отказался даже от внешних признаков чемпионства, отверг и дикий ритуал, и связанный с этим ритм жизни. На него событие подействовало иначе. Сидя сейчас на этом диване, он чувствовал себя немного смешным, явно анахроничным, похожим на кавалера, которого одурачила не пришедшая на свидание дама. Предупреждение? Пусть. Но только какого рода — он ведь никогда не жаловал своим вниманием всякие символы, предзнаменования, сновидения, предчувствия. Никогда не верил ни в звезды, ни в кофейную гущу. Недолго думая, отбрасывал в сторону все эти причудливые, порой необъяснимые явления, которые делают жизнь лишь еще более запутанной, не проясняя роль случая. Не предупреждение, то есть не такое предупреждение, которое он мог бы прочитать, как текст в открытой книге. Скорее нечто вроде щелчка или какого-нибудь толчка сбоку, который слегка нарушал его устойчивость и сбивал с ранее намеченного маршрута. Небольшой инцидент без серьезных материальных последствий, но ужасно показательный для его теперешней ситуации и заставляющий его осознать, что произошел какой-то сбой и движение прекратилось. А раз все сбилось, значит, наступил час истины. Это прозвучало в его голове как одна из тех высокопарных фраз, смысл которых вдруг доходит до сознания. Сам по себе проигрыш в этой партии не имел большого значения, но он заставлял его взглянуть на себя, вспомнить все, что с ним происходило на протяжении последней недели, спросить себя, каким ветром его занесло сюда, — при том, что ему предписывалось оставаться на месте, — наконец, спросить себя, что ему делать сейчас. Выбор у него теперь был небольшой. Сейчас он уже понимал, что казавшееся ему накануне возможным, таковым не является и не имеет шансов им стать. Оставалось одно. Нужно было найти Асасяна и как можно скорее предупредить.
Он слышал имена — Десмонд или Рина, Фуад или Сэнди, Хасан или Саад, — но все эти имена проходили мимо его ушей, потому что никакое имя уже больше не должно было оставить след в его жизни, остановить его на пути, который ему осталось пройти. Иногда он задерживался у дверей и слушал обрывки разговоров, искаженные всем этим шумом и царящей вокруг суматохой. То тут, то там его слух улавливал похотливые речи, которыми обменивались изрядно захмелевшие мужчины в смокингах, осевшие в каком-нибудь углу. И чем пикантнее была рассказываемая ими история, тем сильнее он отдавал себе отчет, как далеко он отплыл от берега, насколько уже велико расстояние. А ведь в другой ситуации он тоже бы посмеялся, может быть, принял бы даже участие в их несколько грубоватых, а порой и непристойных шутках, вроде тех, которыми в данный момент сыпали вот эти двое, стоящие перед ним. Темой разговора была одна исполинских размеров diva,[95] страдающая от того, что они называли «конгенитальной узостью»: «И как только она ни старалась, какие позы ни изобретала, сколько ни показывалась врачам, ничего не помогало. Гостя принять невозможно. В самый последний момент путь всегда оказывался перекрытым!»
У него создалось впечатление, что его вроде даже заносит в сторону от всех этих не предназначенных ему слов. Он должен был во что бы то ни стало найти Асасяна, но дражайший армянин, вероятно, крутился вокруг какого-нибудь из этих декольте, и к тому же ничто не гарантировало, что он все еще здесь.
На какой-то миг он задержался посреди группы дипломатов, которые, приняв его за одного их своих, продолжили беседу: один из них припомнил времена, когда менялы Джедды для своих операций пользовались счетами и когда машины не имели номеров… Еще они говорили про публичные казни.
Арам сделал жест, чтобы отстранить от себя этих балаболов, мусолящих старые ностальгические напевы, застарелые обиды Запада на тех, к кому он явился незваным гостем. И вдруг он узнал Кармен Штольц, стоящую между двумя словно только что появившимися из какой-нибудь легендарной Нумидии великолепными берберами, которые, похоже, поддерживали ее под руки. «Не забудьте про мое interview»,[96] — выдохнула она ему прямо в лицо. От нее разило спиртным. Арам попытался отойти, но она удержала его за отворот пиджака и, показывая головой на своих кавалеров, спросила: «Как по-вашему, с кем из них мне лечь в первую очередь?»
Однако, удаляясь путями сумерек, Кармен Штольц все же не преминула оставить в воздухе свой отличительный след, который всегда приводил его прямо к Дории, в тот сарай на Кейп-Коде, где занимаясь с ней любовью, он смотрел между досками, как маленькие черные крабы передвигаются по песчаному дну, на линии прилива и отлива. Девчонка, что ни говори, очаровательна, только вот порой несносная во время истерики. Ее суждения становились вспышками гнева. Ее ссоры превращались в катастрофы. Правда, ее злость никогда не была направлена против него. О таких вдовах мечтают…