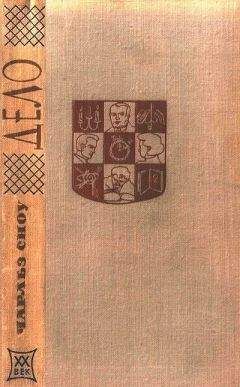— Но это крайне досадно. Нет, даже хуже… — начал я.
— Ну конечно, отвратительно, когда приходится так мерзко вести себя в отношении кого-то. Что там говорить! — сказала Кэтрин мужу.
— В данном случае я имел в виду не изящные манеры, а нечто похуже, — вставил я.
Мой тон напомнил ей, как я того и хотел, старую шутку. Когда я только начал бывать в знатных домах, к которым она привыкла с детства, я был бедным молодым человеком, твердо решившим преуспеть в жизни. Мне приходилось подавлять свою чувствительность, тогда как сама она и ее друзья имели полную возможность носиться со своей сколько душе угодно. В результате они сложили обо мне легенду, сделав из меня нечто вроде Базарова, неузнаваемо цельную натуру, совершенно ничего общего не имеющую ни с тем, чем я был на самом деле, ни со мной таким, каким они меня знали. Как-то так получилось, что легенда прожила чуть ли не полжизни, так что Кэтрин, характер которой был потверже моего, любила иногда прикинуться передо мной Пережитком умирающего класса — хрупкой, бездельной женщиной, на которую наступает некто неумолимый и грубый.
— Куда хуже, чем недостаток изящных манер, — сказал я. — Видите ли, Кэтрин, если Фрэнсис не станет ректором нынче осенью, причиной тому будет поступок, который он готовится совершить завтра. Может быть, он все-таки станет ректором. Но если нет, то этим он всецело будет обязан говардовской истории. Я хочу, чтобы вы знали, что тут не обошлось и без моего участия.
— Что же, наверное, так оно и есть, — сказала она Фрэнсису тоном то ли сердитым, то ли саркастическим, я так и не разобрал каким.
— Это к делу не относится, — ответил он.
— Если бы я не говорил того, что сказал сегодня…
— То в конце концов все равно все кончилось бы тем же.
— Во всяком случае, — сказал я Кэтрин, мне очень жаль, что я приложил к этому руку.
Она пристально смотрела на меня проницательным, оценивающим взглядом. Внезапно она рассмеялась. Это был материнский смех — смех толстой женщины.
— Неужели вы думаете, что я придаю этому хоть какое-то значение? Я знаю, что папочке этого хочется, — она нежно улыбнулась Фрэнсису. — Ну, а раз уж папочке чего-то захотелось, значит, вынь да положь. Только, строго между нами, я так никогда и не могла понять, зачем ему это нужно. Он у меня ведь и так совсем недурно устроен. А из всего этого ничего, кроме невыносимой скуки, все равно не получится. Вы не согласны? Не стану скрывать от вас, я отнюдь не трепещу от восторга при мысли, что мне придется жить в какой-то отвратительной резиденции. Вы только подумайте, кого только нам не придется у себя принимать. Я вовсе не такая уж хорошая хозяйка. Я слишком стара, чтобы терпеть вокруг себя скучных людей. Почему мы должны покорно сносить, когда нам будут надоедать? Ну, скажите, почему?
Она хихикнула.
— Правду говоря, — сказала она, — я теперь желаю папочке только одного: чтобы он поскорее вышел в отставку. Это мое единственное желание.
Фрэнсис улыбнулся. Их брак был счастливым. Но в тот момент, когда она сказала: «Это мое единственное желание», — он не мог солгать себе или хотя бы сделать вид перед нами, что это было и его единственным желанием.
Глава XXX. Слово «ошибка»
На следующее утро, в воскресенье, старейшины сидели вокруг стола в профессорской комнате и ждали. Ждали они Скэффингтона. Его просили быть готовым к половине одиннадцатого. Он не появлялся.
Злой, встревоженный, потому что это был мой свидетель, я подошел к окну и стал смотреть на залитый солнцем двор. Обернувшись, я спросил Кроуфорда, не позвонить ли мне по телефону Скэффингтону домой? Не успел он ответить, как в комнату вошел дворецкий. Он доложил ректору, что доктор Скэффингтон находится в колледже: старший швейцар видел, как он вошел в капеллу с полчаса тому назад. Он еще не выходил оттуда.
— Благодарю вас, Ньюби! — сказал Кроуфорд. — Будьте добры, доставьте его сюда, как только он объявится.
Когда мы снова остались одни, Браун сообщил нам, что никакой службы в капелле с восьми утра до одиннадцати не предполагалось.
— Должно быть, молится, — сказал Браун. — Убежден, что он молится. — И добавил: — Боже упаси, я вовсе не хочу соблазнить и единого из малых сих, но хорошо, если бы он все-таки поторапливался.
— Я, абсолютный профан в этой некромантии, — сказал Уинслоу, — надеюсь все же, что Скэффингтон не призывает на помощь в борьбе против нас потусторонние силы. Или я зря обольщаюсь?
Старик был в восторге. Он чувствовал себя так, словно опять вернулись девяностые годы, когда было принято щеголять неверием — откровенным, вызывающим неверием. Как он с удовольствием поведал суду, ему по-прежнему были одинаково мало интересны как «религиозные упражнения», так и ритуалы диких племен.
— Скэффингтон, по всей вероятности, хотел бы, чтобы мы осознали разницу между его действиями и шаманскими заклинаниями. Я же, признаться, считаю, что приписывать его действиям смысл, которого они отродясь не имели, — значит, грешить против разума. Должен сказать, что молитва перед дачей показаний в суде является, на мой взгляд, ярким примером симпатической магии. Нахожу, что для человека, считающегося разумным, занятие это более чем странное.
Втайне Кроуфорд разделял его мнение. А вот как насчет Брауна, аккуратно посещавшего все службы в колледжской капелле, правда, скорее из соображений, как я не раз думал, светской, а не религиозной благопристойности, из приверженности к укоренившемуся положению вещей? Возражение, во всяком случае, последовало не от них и не от Найтингэйла, а с противоположного конца стола, где сидел Доуссон-Хилл.
— А я, знаете ли, не нахожу в этом ничего странного, — сказал он.
— Да неужели?
— Я сказал бы, что это совершенно естественно. — Доусон-Хилл улыбнулся, спокойный, ничуть не смущенный.
Мне следовало бы помнить, что он ревностный католик. Я уже приготовился услышать, что он и сам побывал на утренней службе, но в это время дворецкий громко объявил о приходе Скэффингтона.
Я ограничился несколькими вопросами. Ничего нового сообщить Скэффингтон не мог; суд уже неоднократно выслушивал его мнение, которое всегда высказывалось возбужденным и заносчивым тоном. Стоит только признать, что это дело рук Пелэрета, и картина сразу делается ясна; все становится на свое место; после того как он просмотрел тетради, для него это стало совершенно очевидным; исчезновение фотографии — «достаточно красноречивый факт». Сделал это Пелэрет, и «иных предположений просто быть не может».
Я передал его Доуссон-Хиллу, ожидая, что они поймут друг друга. Однако с первого же вопроса и ответа стало ясно, что они вряд ли поладят. И не потому, что Скэффингтон разоблачил что-то, и не потому, что Доуссон-Хилл задал ему какой-то каверзный вопрос. Нет, они просто возбуждали друг в друге страшную неприязнь. Они старались не встречаться взглядами, их красивые профили были повернуты вполоборота. Оба они прекрасно сознают, что хороши собой, думал я, и, не забывая об этом ни на минуту, раздражают, по-видимому, не только людей с более скромной наружностью, но и друг друга. Доуссон-Хилл уделял большое внимание своей внешности: его волосы без единой сединки блестели сегодня не хуже, чем у щеголеватого студента-выпускника. Может быть, именно это тщеславие и не нравилось им друг в друге? Оба, несомненно, были чрезвычайно довольны собой.
Но тут было и еще кое-что. Доуссон-Хилл узнал человека, который, бесспорно, был «одного поля ягода» с ним, человека, принадлежащего как раз к тому кругу высшей буржуазии, который еще цеплялся всеми силами за остатки былого величия. Обнаружив в нем противника, представителя враждебного лагеря, в вопросе, касавшемся такого дела, он был возмущен до глубины души. Несмотря на всю свою терпимость, несмотря на прямоту и справедливость, — а Доуссон-Хилл отнюдь не был лишен этих качеств, — он инстинктивно чувствовал, что место этого человека рядом с ним, а вовсе не против него.
Вчерашние мысли снова пришли мне в голову. Скэффингтон потому так и злился, что сам понимал все это, и только честность вынуждала его действовать иначе. Давая показания суду, он в душе был недоволен тем, что ему приходится опротестовывать решение этих людей. Он хотел быть с ними заодно — вернее, даже не столько хотел, сколько считал, что его место среди них. Даже голос его выдавал, что душой он с ними. Потому-то он и раздражался так на Доуссон-Хилла, на судей, на всех, кто не был согласен с ним. Потому-то его протесты и были так безапелляционны.
Сидевшие за столом старейшины слушали его с официальной вежливостью и без всякого внимания. И если ему удалось произвести на них хоть какое-то впечатление в тот день, то оно было определенно отрицательным.
Я с облегчением вздохнул, когда он вышел.