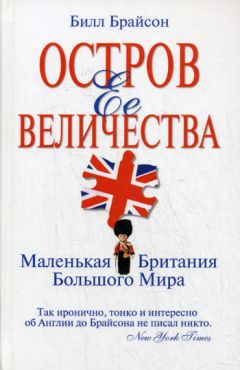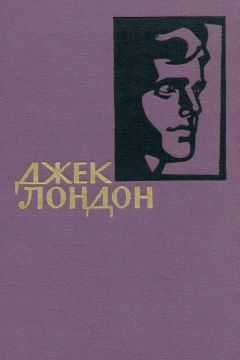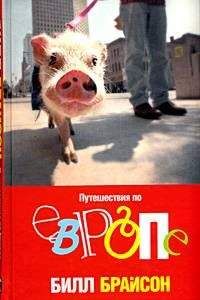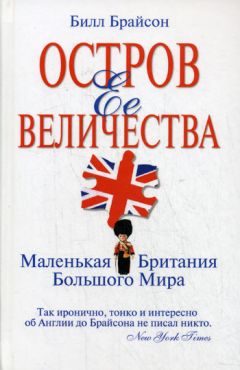Я покинул отель счастливым и немного располневшим, добрался в темноте до станции, и тут меня поджидал второй сюрприз этого утра. Платформа была полна женщин, бодро наполнявших морозный темный воздух облачками пара от дыхания и веселыми горским голосами и терпеливо дожидавшихся, пока проводник докурит сигарету и откроет двери вагона.
Я спросил у одной леди, что происходит, и она объяснила, что все собрались в Инвернесс за покупками. Они ездят туда каждую субботу. Они проведут в поезде чуть не четыре часа, затоварятся панталонами из «Маркс и Спенсер», пластиковой блевотиной и прочими благами Инвернесса, отсутствующими в Терсо — довольно многочисленными, — потом на шестичасовом поезде вернутся домой и лягут спать.
Так мы и ехали сквозь туманное раннее утро — целая толпа, уютно набитая в двухвагонный состав, в настроении радостного предвкушения. В Инвернессе была конечная станция, и все мы выгрузились: леди — чтобы отправиться по магазинам, а я — чтобы пересесть на 10:35 на Глазго. Глядя им вслед, я с удивлением почувствовал, что во мне шевельнулась зависть. Как это необычно — подняться до рассвета, ехать за покупками в какой-то Инвернесс, вернуться домой в одиннадцатом часу вечера! Притом я едва ли видел когда-нибудь более счастливую толпу покупателей.
В маленьком поезде на Глазго было почти пусто, а за окном мелькали роскошные пейзажи. Мы проезжали Эвимор, Питлохри, Перт и Глениглс — маленькие станции, теперь, увы, закрытые. И наконец, спустя восемь часов с утреннего подъема, оказались в Глазго. Странно было после столь долгого пути выйти с вокзала Куин-стрит и обнаружить, что ты все еще в Шотландии.
Хорошо хоть, это не оказалось потрясением для организма. Помнится, в 1973 году, впервые попав в Глазго и выйдя с того же вокзала, я был до глубины души поражен удушающей темнотой и черной копотью города. Никогда я не бывал в столь душном и чумазом месте. Все в нем выглядело черным и безрадостным. Даже местный выговор, казалось, порожден шлаком и песком. Собор Святого Мунго был так темен, что уже с другой стороны улицы представлялся плоским силуэтом, вырезанным из бумаги. И туристов здесь не было — вообще. Пусть Глазго — крупнейший город Шотландии, но мой путеводитель по Европе о нем даже не упоминал.
С той поры, конечно, Глазго пережил блистательное и великолепное преображение. Десятки старых зданий в центре отчистили пескоструйными машинами и любовно отполировали, так что их гранитные стены блестят, как новенькие, а в восьмидесятых годах — годы подъема и процветания — возвели множество новых. Только за предпоследнее десятилетие построено на миллиард фунтов новых офисов. Город приобрел один из лучших музеев мира — коллекцию Баррела и один из лучших образцов городской реновации — торговый центр на Принсез-сквер. Мир начал осторожно заглядывать в Глазго и вдруг с восторгом открыл, что в городе на каждом шагу отличные музеи, оживленные пабы, оркестры мирового класса и не меньше семидесяти парков — больше, чем в любом европейском городе той же величины. В 1990 году Глазго получил звание европейской столицы культуры, и никто над этим не смеялся. Никогда репутация города не испытывала столь драматичной и внезапной трансформации — и ни один город, на мой взгляд, не заслуживал этого так явно.
Среди множества сокровищ Глазго ни одно для меня не сияет ярче коллекции Баррела. Зарегистрировавшись в отеле, я сразу поехал туда — на такси, потому что это довольно далеко.
— Ивдака пибыли? — спросил меня водитель, пока машина неслась к Поллок-парку через Клайдбэнк и Обан.
— Прошу прощения? — переспросил я, поскольку не понимаю по-глазгиански.
— Смеефся, фто ли?
Вот чего я терпеть не могу — когда житель Глазго со мной заговаривает.
— Прошу прощения, — повторил я и поспешил оправдаться: —Я очень плохо слышу.
— А, издавека, внафит, — произнес он, что означало, как я понял: «Тогда я тебя повезу самым дальним путем и всю дорогу буду посматривать грозным взглядом, чтобы ты гадал, не высадят ли тебя у заброшенного склада, где поджидают мои дружки, чтобы тебя отколошматить и отобрать денежки»; однако больше он ничего не добавил и без происшествий доставил меня к коллекции Баррела.
Как мне нравится коллекция Баррела! Названа она в честь сэра Уильяма Баррела, шотландского судовладельца, который в 1944 году подарил городу свою коллекцию на условии, что ее разместят в загородном окружении в пределах города. Он опасался — и вполне обоснованно, — что загрязненный воздух повредит произведениям искусства. Не зная, что делать с этим свалившимся с неба богатством, городской совет, как ни удивительно, не сделал ничего. Следующие тридцать девять лет выдающиеся шедевры лежали в ящиках на складах, практически забытые. Наконец, на исходе семидесятых, проведя четыре декады в смятении, город нанял талантливого архитектора Барри Гассона, спроектировавшего изящное и неброское здание с полными воздуха залами; его поставили на фоне лесистого склона и изобретательно использовали архитектурные элементы коллекции — средневековые двери, карнизы и тому подобное — в самом строении. Оно открылось в 1983 году и получило широкое признание.
Баррел был не особенно богат, но, боже мой, как он умел выбирать! В галерее всего 800 экспонатов, зато они собраны со всего света: из Месопотамии, Египта, Греции, Рима — и почти все (за исключением нескольких фарфоровых статуэток девушек-цветочниц, купленных, должно быть, в горячке) потрясают. Я провел долгий счастливый день, странствуя из зала в зал, представляя, как нередко делаю в таких случаях, будто мне предложили принять любой предмет на выбор в дар от шотландского народа за мое персональное обаяние. В конце концов, после мучительных колебаний, я остановил свой выбор на сицилийской головке Персефоны пятого века до нашей эры. Она не только выглядела безупречной, сделанной будто вчера, но и отлично смотрелась бы у меня на телевизоре. И к вечеру я вышел из музея в зеленый Поллок-парк совершенно счастливым.
День выдался довольно теплым, и я решил пройти обратно пешком, хотя у меня не было с собой карты и имелось лишь самое смутное представление, в какой стороне лежит далекий центр Глазго. Не знаю уж, то ли Глазго — изумительный город для пеших прогулок, то ли мне просто везло, но ни одна прогулка по Глазго не обходилась для меня без памятных сюрпризов — заманчивой зелени Келвингрув-парка, Ботанического сада или знаменитого кладбища «Некрополь» с его рядами нарядных могил. Так вышло и теперь. Я с надеждой зашагал по широкой улице под названием Сент-Эндрю-драйв, которая вывела меня в красивый квартал почтенных домов с милым парком и маленьким озерцом. Дальше я миновал частную школу на Скотланд-стрит — удивительное здание с просторными лестницами, работы, насколько я понимаю, Макинтоша — и вскоре оказался в менее почтенном, но не менее интересном районе, который я, по зрелом размышлении, признал за Горбалс. А потом я заблудился.
Время от времени я видел вдали Клайд, но никак не мог сообразить, как к нему выйти и, главное, как его перейти. Я блуждал по неразличимым переулкам и вскоре очутился в одном из тех мертвых кварталов, что состоят из глухих стен складов и гаражных дверей с надписью: «Не парковаться — гараж постоянно используется». Я сворачивал туда и сюда, и каждый поворот уводил меня все дальше от человечества, пока наконец не вывернул в короткий проулок с пабом на углу. Мечтая выпить и присесть, я забрел внутрь. Заведение оказалось темным и потрепанным, и сидели там всего двое посетителей, преступного вида личности, примостившиеся бок о бок у стойки и молча выпивавшие. За стойкой не было никого. Я занял позицию на дальнем конце стойки и немножко подождал, но никто не появился. Я побарабанил пальцами по стойке, надул щеки и пошевелил губами, как это делают все ожидающие (как вы думаете, зачем мы это проделываем? Ведь это не отнесешь даже к разряду дурного вкуса развлечений для самого себя, вроде срывания мозолей или чистки ногтей ногтем большого пальца). Я почистил ногти ногтем большого пальца и снова надул щеки, но никто так и не вышел. Тут я заметил, что один из выпивох разглядывает меня.
— Слыф, чо грю? — спросил он.
— Простите? — откликнулся я.
— Так и до утва пвовдофь. — Он мотнул головой в сторону подсобки.
— О… а… — произнес я, понимающе кивнув.
Теперь уже оба смотрели на меня.
— Ху и пу ефть? — обратился ко мне первый.
— Простите?
— Ху и пу — ефть? — повторил он.
Я заметил, что он основательно пьян.
Я виновато улыбнулся и пояснил, что прибыл из той части света, где говорят по-английски.
— Не понимаефь? В мае довдефся, — продолжал тот.
— Посеефь вефной, поефь летом, — вставил его приятель и добавил: — Лофкой.
— О… а… — Я снова задумчиво кинул и слегка оттопырил губу, словно теперь-то мне все стало ясно.