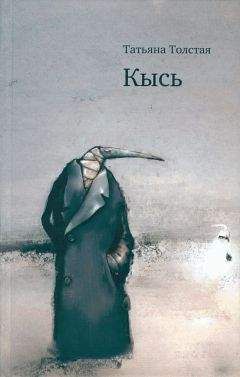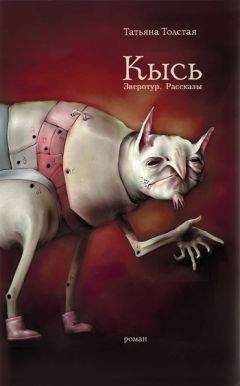Китовый ус! Сразу представился чудо-юдо, рыба-кит, гладко-черная гора в сером, серебристо-медленном море-океане. Посреди кита – фонтан, как в Петродворце, – бьет пенной водой на обе стороны. Маленькие внимательные глазки. На морде у чуды-юды – усы, длинные и пушистые, совершеннейший Мопассан. Впрочем, энциклопедический словарь пишет: «Зубы только у т. н. зубастых К. (дельфины, нарвалы, кашалот, клюворылы), к-рые питаются гл. обр. рыбой; усатые К. (серые К., гладкие К., полосатики) имеют на нёбе роговые образования – „усы“, служащие для отцеживания планктона»… Неправда, не только для отцеживания: еще в 1914 году портниха, шившая модное платье моей бабушке, укоризненно сказала ей, рассеянной и беззаботной: «Сейчас, Наталья Васильевна, без прямой планшетки вращаться нельзя…» Бабушка устыдилась и согласилась на прямую планшетку; портниха набрала кусочков изо рта серого К., а может, гладкого К., а может, полосатика, и вшила в бабушкин корсет, и бабушка благополучно вращалась, нося под грудью, или на талии, осколки морей, частички нежной серо-розовой пасти, и проходила анфиладами комнат, стройная и маленькая, декадентская Афродита с тяжелым узлом темно-золотых волос, шурша шелками и дыша французскими духами и модными норвежскими туманами, и головы поворачивались ей вслед, и сердца бились, и она неосторожно и опасно полюбила, и вышла замуж, и началась война, а потом революция, и она родила папу, – в день, когда строчил пулемет из тумана, – и волновалась, и забаррикадировала матовое окно ванной, и бежала на юг, и ела виноград, а потом опять застрочил пулемет, и она снова бежала на последнем пароходе из виноградной, богемной Одессы, и добралась до Марселя, а потом до Парижа, и голодала, и бедствовала, и унижалась, и сама теперь шила богатым, и ползала на коленках вокруг их юбок, зажав во рту булавки, закалывая подолы и подкладки, и отчаялась, и снова бежала на юг – теперь уже Франции, – вообразив, что сама может, умеет не только есть виноград, но и делать вино: надо только топтать его ножками, называется ванданж, и тогда снова все разбогатеют и все станет как раньше, – рассеянно, беспечно, беззаботно; но опять позорно, смехотворно разорилась и в августе 1923 года вернулась в Петроград: подстриженная, в новой, модно-короткой юбке и шляпке грибом, держа подросшего, испуганного папу за руку. Можно уже было вращаться без планшетки, на других условиях. Много тут чего вращалось.
Чтобы пересказать жизнь, нужна жизнь. Пропустим это. Потом как-нибудь.
Я, собственно, думаю про кита: как он нырял в холодную норвежскую воду, ничего не подозревая, не думая о рыжебородых северных рыбаках; как не берегся, выныривая на серую поверхность моря, воспетого модными писателями минор модерна: негаснущие желтые закаты в разливах северных вод, светловолосые девушки, сосны, камни, сонаты Грига. Роговые образования на нёбе, так называемые усы, задуманные как инструмент для отцеживания планктона, ему не понадобились, северные девушки нашли им лучшее применение. Тонкая талия – пышные волосы – трудная любовь – долгая жизнь – дети, которых волочат за руку по морям и континентам, – вот и войнам конец, делу венец, союзники шлют нам добротную свиную тушенку; мы съели ее и сплюнули в освободившуюся тару косточки, зубы и усы. Впрочем, зубы – у клюворылов, а наш, наш собственный, личный, серый и гладкий полосатик, наш бедный Йорик рыбы не ел, рыбаков не обижал, прожил жизнь светлую и короткую, – нет, нет, долгую, долгую жизнь, она длится и посейчас, она будет длиться, пока из жестянки на дребезжащем подоконнике чьи-то неуверенные, задумчивые пальцы будут вылавливать и отпускать, вылавливать и отпускать молчаливые, чудесные черепки времени. Зажать в кулаке частичку Йорика, молочную и прохладную, – и сердце молодеет, стучит и рвется, и кавалер барышню хочет украсть, и вода бьет фонтаном на все стороны моря, и мир вращается, крутится, вертится, хочет упасть, и стоит на трех китах, и срывается с них в головокружительные бездны времени.
По ночам Ленинград продувает весна. Ветер речной, ветер садовый, ветер каменный сталкиваются, взвихриваются и, соединившись в могучем напоре, несутся в пустых желобах улиц, разбивают в ночном звоне стекла чердаков, вздымают бессильные сырые рукава белья, сохнущего между стропил; ветры бросаются грудью оземь, взвиваются вновь и уносятся, мча запахи гранита и пробуждающихся листьев, в ночное море, чтобы где-то на далеком корабле, среди волн, под бегучей морской звездой бессонный путешественник, пересекающий ночь, поднял голову, вдохнул налетевший воздух и подумал: земля.
А ранним летом город начинает томить душу. Стоишь вечером у окна над пустеющей улицей и смотришь, как тихо, исподволь зажигаются дуговые фонари – вот был мертв и молчал, а гляди – уже болезненной технической звездой зажглась и раздувается розоватая марганцовая точка, и разливается, и растет, и светлеет, пока не засияет в полную силу мертвенной лунной белизной. А за городом так же тихо, никого не спросясь, уже поднялись из земли все травы, и, не думая о нас, шумят деревья, и сады меняют цветы за цветами. Где-то там пыльные белые дороги, крошечные фиалки у обочин, шелест летней тишины в вершинах столетних берез.
Где-то там стареет, заваливается набок наша дача. Тяжестью февральских снегов продавило крышу, зимние ураганы повалили двурогую трубу. Рассыхаются рамы, и ромбики цветных стекол падают, ослабев, на землю, на ломкий сор позапрошлых цветов, на сухую путаницу отживших стеблей, падают с негромким звоном, который никто не услышит. Некому выдернуть крапиву и лебеду, смести сосновые иглы с ветхого крыльца, растворить скрипучие некрашеные ставни.
Прежде для всего этого была Женечка. Кажется, будто и сейчас она идет прихрамывая по садовой дорожке, подняв, как факел, первый букет укропа. Может быть, она где-то есть и сейчас, где-то тут, просто мы ее не видим, а кладбище – совсем неподходящее для нее место, вот уж для кого угодно, только не для нее. Ведь она собиралась жить вечно – пока не высохнут моря. Ей и в голову не приходило, что можно перестать жить, да и мы, по правде говоря, были уверены в ее бессмертии – а заодно и в своем.
Давным-давно, по ту сторону снов, на земле стояло детство, ветры молчали, спали за далекими синими лесами, была живая Женечка… И вот из растущего с каждым годом гербария минувших дней – пестрых и зеленых, тусклых и раскрашенных – память вынимает, любуясь, все один и тот же листок – первое дачное утро.
Первым дачным утром сырая веранда плавает в подводном зеленом полумраке. Дверь на крыльцо распахнута, из сада тянет холодком, и уже приготовлены гулкие пустые ведра, чтобы бежать на озеро, на гладкое ослепительное озеро, куда в ранний час упал, перевернулся и отразился весь мир. Булькнет старое ведро, булькнет далекое эхо. Зачерпнешь глубокой холодной тишины, заме-ревшей глади, посидишь на поваченном дереве.
Скоро за воротами дач загудят машины, из машин посыплются дачники, и, охая и ноя, заворочается в узком лесном тупичке дороги грузовое такси, цепляясь за низкие ветки кленов, обламывая хрупкую цветущую бузину, – напустит синего дыма и со вздохом замрет. И в возвратившейся тишине слышен будет только деревянный гром откинутых бортов, и на вознесенной платформе бесстыдно откроется взгляду чужое имущество, увенчанное перевернутым венским стулом.
А одна из машин въедет прямо в ворота, и из распахнувшейся дверцы покажется сначала крепкая пожилая рука с палкой-посохом, затем нога в высоко зашнурованном ортопедическом ботинке, маленькая соломенная шляпа с черной лентой и вслед за ними сама улыбающаяся Женечка, которая сначала вскрикнет высоким голосом: «Ах, что за сирень!», а потом уж: «Мои чемоданы!», но скучающий шофер уже будет стоять, держа парусиновые чемоданы в обеих руках.
Она поспешит в дом, громко восхищаясь ароматами сада, нетерпеливо толкнет закрытые рамы и обеими руками, сильно, как матрос, притянет ветви сирени, чтобы ее холодные лиловые букли, важно и шумно шурша, вошли в комнаты. Потом она заторопится к буфету, поглядеть, не разбили ли зимние мыши ее любимую чашку, и буфет неохотно приоткроет разбухшие дверцы, за которыми в душной пустой глубине Женечкина любимица коротала январские ночи наедине с забытым седым пряником.
Она пройдет по всем комнатам, еще не прогретым солнцем, она распакует вещи, раздарит шуршащие бумагой подарки, вытряхнет из кульков пастилу и сладкие коржики, заставит углы букетами полевых цветов, повесит над своей кроватью наши улыбающиеся фотографии и, расчистив письменный стол, разложит стопочками учебники, словари и сборники диктантов – ни одного дня она не позволит нам провести в праздности, каждого усадит хоть на час за соответствующее возрасту занятие. «Нас легион, всех не обучите», – закривляемся мы и запрыгаем перед Женечкой. – «Обучу», – спокойно ответит она, ища чернильницу. – «Да вы себя пожалейте, – заканючит кто-нибудь. – Мы же отвратительные – ленивые, нелюбопытные…» – «Все вы у меня вырастете образованными людьми». – «Не вырастем! Мы рабы желудка! Мы типичные представители темного царства! Собрать бы книги все да сжечь!» – «Ничего, управимся!» – и она крепко схватит нас и больно расцелует всех по очереди с судорожной любовью, которую мы снисходительно принимаем: пусть любит… А она уже тащит первую жертву на урок, приговаривая: «Я и маму твою учила. Я и с бабушкой твоей с детства дружила…» И в складках ее платья, на груди, соловьем начинает стрекотать слуховой аппарат, который почему-то никогда не удается исправить. Что ж, значит, опять занятия, упражнения и диктовки, опять Женечка, сидя в скрипучем плетеном кресле, положив больную ногу на посох, начнет размеренным голосом, не торопясь, выращивать из нас образованных людей, а мы снова, с беспечностью детства, начнем куражиться над ней. Будем вползать на животе в комнату, где томится над тетрадкой очередной пленник, прятаться за Женечкиным креслом, – полотняная сгорбленная спина, чистый мыльный запах, ивовый скрип, – будем, пользуясь Женечкиной глухотой, подсказывать хихикающей жертве неправильные или неприличные, дурацкие слова или же подсовывать записочки с призывами к восстанию против поработителей, пока Женечка не заметит неладное и, всполошившись, не прогонит лазутчика.