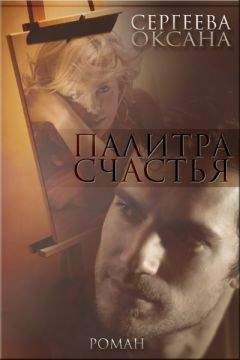Летит Димка в старом скрипучем вагоне, который бросает из стороны в сторону на расхлябанном, изрытом войной и наспех залатанном пути, и в густеющих сумерках за окном — если, свесившись, бросить взгляд, — пни, пни среди снега, вырубки, а дальше, за пустой полосой, где только начала пробиваться и слабо темнеет сейчас на белом молодая поросль, — могучий хвойный лес. Это полоса смерти, зона отчуждения, очищенная оккупантами для лучшего обзора и обстрела, чтобы обезопасить подходы к железной дороге, лишить партизан прикрытия. Сколько еще лет надо, чтобы исчезли эти лесные лишаи войны! Димка присматривается к снежному покрову, видит проталины и вздыхает с облегчением — значит, земля не совсем промерзла и копать ее будет легко.
Надо будет только сойти за один перегон до Инши и идти дальше лесом. К бабке Димка боится являться — она так скоро Димку не отпустит, оставит погостить, разогреется он на печи, размякнет — да и лишится своей решимости. А хотелось бы, как хотелось бы увидеть бабку. Личико у нее желтое, сморщенное, но глаза еще молоды, блестят, как вишни, и полны задиристости. Уж как бросится она к Димке, как начнет ругмя ругать этот огромный город, который совсем скрутил «дытыну», все эти учебники и лекции, отнимающие здоровье, молодость, силы, и появятся на столе, как в сказке, глечики с кисляком, сметаной, молоком, и к вечеру будут исходить паром в макитре темные, ржаной муки, вареники и галушки. А в дальнем углу хаты будут брошены на пол вороха полыни, которой смерть как боятся вездесущие и прыгучие иншанские блохи, и вечером, когда устанешь от разговоров, еды, воспоминаний, можно лечь навзничь на рядно, постеленное на этой хрустящей полыни, и погрузиться в сухой, горький запах. Нет, нельзя сейчас Димке заявиться к бабке — да и что он объяснит? Почему перед Новым годом — и на один день? Почему без подарков? У бабки чутье хорошее, она недаром лучшая гадалка в поселке, начнет приставать с вопросами, заволнуется, забегает, станет спрашивать совета у соседей, появится старый Митро, Секулиха. Эх, если бы он, Димка, приехал на каникулы свободный и счастливый, расположенный к отдыху и болтовне. Да еще в новых туфлях, галстуке и шляпе…
Ночью лишь слабая свечечка теплится в вагоне третьего класса, чудом уцелевшем в войну. Видно, как от покачивания хлипкого, стонущего корпуса за стеклом фонарика то туда, то сюда стекают по свече стеариновые капли, мечется огонек. Пламя еле живет в спертом воздухе. Весь вагон тяжело кашляет, кого-то зовет дремотными голосами, всплакивает, бубнит в полночной беседе, все о том же, о трудной доле и надежде на лучшее будущее, объясняется в любви, заходится пронзительным младенческим криком-призывом, шепчет молитвы, бродит к туалету, где в тамбуре цинковый бачок с водой и кружкой, посаженной на цепочку. Грохочет чурками проводница, растапливающая железную печь. Сон лишь урывками слетает на Димку, какими-то кошмарами терзает воображение и снова блаженно отпускает, позволяет видеть огонек свечи. Как будто приступ горячки охватил парня, и пока он не доберется до назначенного места и не вернется и не выполнит того, что задумал, он не будет знать ни одной минуты облегчения, он не будет слышать голосов людей, даже видеть никого не будет.
Поздним утром, когда вагон уже отстучал кружками с кипятком, отшелестел яичной скорлупой и бумагой, опустошил бак и жестяной умывальник в туалете, Димка осторожно, чтобы не наступить на чьи-то головы, руки, плечи, спускается со своего горища.
Еще через несколько часов Димка, так же не видя никого и не слыша, но, как заведенный, делая все точно и вовремя, сходит на маленьком разъезде, где лишь пустая дощатая будочка да шлагбаум на пересечении песчаной дороги с рельсами. Как свеж и чист воздух родных лесов! До Инши отсюда лишь семь километров. Димка идет к родной станции вдоль пути, не слишком близко, однако, к насыпи, чтобы не встретить знакомых путейских рабочих. Снег лежит лишь озерцами, покрывая крупной солью вересковые полянки и тимьяновые склоны лесных холмов. Башмаки Димки тонут в песке, похрустывают под подошвами стебельки сушеницы. Иногда попадаются высокие, куда как выше головы, засохшие стебли коровяка, а над головой — кроны сосен, знаменитых полесских сосен, стволы которых покрыты насечками, оставленными сборщиками живицы, и даже зимой приятно щекочет ноздри густой скипидарный залах смолы Встречный поезд, со стороны Инши, громыхает по насыпи, вдавливая шпалы в песок. Паровоз серии «С» (как они хорошо известны Димке, все эти паровозы, рядом с которыми прошло столько лет детства) легко тянет состав под уклон, лоснятся его черные выпуклые бока, залатанные кое-где клепаными кусками железа. Насыпь как будто оживает — от движения поезда поднимается метель бумажек, несется вслед последнему вагону, где на тормозной площадке мотается закутанная фигура кондуктора.
Сколько раз бродили они вдоль этой насыпи, сколько подарков дарила им дорога. Бумажные, алюминиевые, медные деньги, всех стран Европы валялись под откосом, они рассматривали их, разглаживали, очищали, менялись. Пустые пачки из-под сигарет — они тоже шли в коллекции и в обмен. Сорванные ветром с отчаянных солдатских голов пилотки и фуражки, а иногда и особо ценные теплые шапки, слетевшие с забравшихся на крышу мешочников. Иногда они, отчаянные -железнодорожные пацаны, хором орали мешочникам, коченеющим на крышах вагонов «Осторожно, мост, осторожно, мост, голову береги!…» Это если поезд шел вниз, и реке Древ, где на мосту чрезвычайно низко висели балки перекрытия и сметали каждого, кто не успевал распластаться на крыше. Случалось, начинающие мешочники оказывались в воде с переломанными костями.
Но особенно ценились ими окурки, брошенные из дверей теплушек или окон вагонов. Из эшелонов, шедших с Запада; богатые куревом солдаты бросали их щедро, не дожигая до самых пальцев, и из этих «бычков» удавалось добыть немало табачку, который затем перебирался, просушивался и продавался маленькими стаканчиками на станционном базаре. Они умели добывать денежку, голоногие проходимцы. Но если удавалось найти упавшую на платформы глыбу серой соли — о, это было целое богатство. Иногда они сами вскакивали на ходу на эти платформы, ожидая эшелон в засаде на подъеме, где маломощные паровозы сбавляли ход, и они сбрасывали соль, и прыгали с платформ в песок, кувыркаясь по насыпи под предупредительные выстрелы вооруженной наганами инвалидной поездной охраны.
Тяжело дыша от тяжелой вязкой дороги, Димка добирается до будки путевого обходчика. Еще с самого начала войны она брошена, просматривается насквозь — нет в ней ни окон, ни дверей; кирпичные, с облетевшей побелкой стены в языках копоти от давнего пожара. Возле будки Димка переводит дух. Он прячется за стенку, когда по колее, дребезжа и лязгая, пробегает дрезина с ручным движком. Как гребцы, но сидя лицом друг к другу и качаясь вперед и назад, движут рукоять рычага путейские рабочие, среди которых Димка узнает знакомую фигуру старика-инвалида Макара. До Инши совсем близко. Теперь от будки через молодую сосновую посадку, которая успела за то время, что Димка провел в столице, подрасти, к поляне, где растет яблоня-кислица. Посадка, как всегда, веет теплом. Димка слизывает чистый снег мохнатой сосновой ветви. Жажда и голод сосут его, но это не тяжелое чувство, оно как будто даже помогает ему в его стремительном движении, делает легче и послушнее тело. По дороге Димка подбирает толстую, с острым и обломанным концом палку. Посадка заканчивается. Перед глазами холмистая поляна, где до войны высаживали картошку. Сейчас из-под снега торчат лишь желтые стебли лебеды. Сквозь ряды сосновой посадки видна будка, и Димка выбирает сосенку, которая находится как раз на умозрительной линии, соединяющей будку и яблоньку. Палкой Димка начинает тыкать в песок. Детство торовато на выдумки, особенно на всяческие тайники. Никогда не думал Димка, что ему придется раскапывать этот давний схрон с оружием, найденным вот на этой полянке, где в последний год войны, зимой, насмерть схватилась какая-то выбирающаяся из лесов бандеровская группа с нашим заслоном. Все, что хранилось у него на чердаке, на сеновале, под стенами сарая, на огороде, Димка сдал «ястребкам»; бабка очень уж ругалась, да и в школе им, старшеклассникам, сказали, что, если у кого-нибудь будет найден хоть один завалящий пистолетик или граната, не видать тому несчастному аттестата зрелости. Директору сильно надоела стрельба в ближних, лесах и постоянное опасение за жизнь учеников. То и дело кого-то из пацанов увозили в больницу, а то и на кладбище. Все сдал Димка, а этот вот дальний лесной тайник оставил: время, решил он, уничтожит его, изъест ржавчиной, забьет мокрым песком.
Полчаса тыкает он палкой в песок, оглядываясь по сторонам. Холодный пот заливает лицо — неужели перепутал что-нибудь, сбился? Или, может, Генка Белецкий, друг и сосед, выкопал? Но нет: Генка знал все его секреты, все скрытые схороны близ дома, но об этом, дальнем, Димка ничего не сказал ему — и не потому, что предвидел какую-то надобность в тайнике, а просто среди всего того, что у них имелось, это был, пустяк, оставленный для разрушения самой природе.