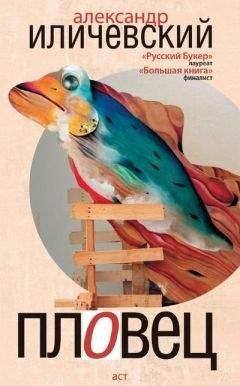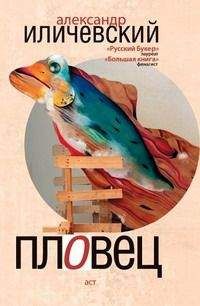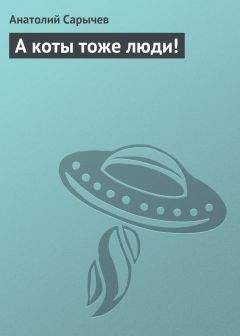Бурление взорвало стакан, Семенов выдернул кипятильник из розетки…
— Ну что? Что? Надо свезти его в Калугу, сдать в богадельню. Дед, наверное, потерялся, заплутал из какого-то приюта, но никак не признается, не вспомнит.
Я подумал, что сейчас внизу стоит мой велосипед. Что его могут увести.
— Я слышал, в Москве, если в больницу попал бомж, его через три дня отвозят на служебной машине в другой округ и высаживают. Есть фельдшеры, ответственные за это, — сказал я тихо Семенову.
Семенов и глазом не повел, резко обернулся к старику:
— Отец, где ты раньше жил, в каком городе?
— Не помню, — сказал старик через усилие, и у него задрожал подбородок.
Прежде чем везти его в Калугу, следовало послать запрос в дом для престарелых и дождаться ответа. Запрос составляется с помощью собеса, но прежде нужно установить личность, место прописки, черт его знает, что там с полисом. Как тут быть, когда дед ничего не помнит, ничего не соображает, — убить его? В общем, надо писать заявление в милицию, пусть ищут родственников. А пока его надо подселить в стационар. Врач куда-то позвонил и стал оформлять бумаги.
Я поднялся. Старик смотрел в окно.
— Счастливо вам.
Дед встал и отправился за мной в коридор.
— Вам нельзя со мной, вас сейчас определят в больницу. А потом в Калугу отправят.
Старик заплакал.
Я остановился.
Вот эта гора — храм костей и старости, этот плечистый, мосластый организм безумия, беспамятства и немощи внушал необъяснимое доверие, не ясно, откуда оно бралось. С одной стороны, младенцы оттого милы беспомощностью, чтобы вызвать у мира нежность; так же и старики младенчески скукоживаются, чтобы поместиться в жалость, одолевающую отвращение. С другой же, старик, хоть и ничтожен разумом, но — красивое, благородное животное, чистая кровь в нем чувствовалась бесспорно. В его бесспорной монументальности, в том, что он словно бы был памятник и самой немощи, и былой силе, стати — состояла необычайная власть, по крайней мере зрительная. Видимо, это и помогло ему выжить в дороге — ведь красивые люди всегда обретут помощь и уважение, только оттого что от них глаз не оторвать. А что если этот старик — бывший знаменитый актер? Что если эта громадина, гора старости, полвека назад в виде молодца Иванушки кладенцом кромсала Горыныча?.. Что если это пораженный немощью воин, оглушенная сушей, собственной тяжестью рыба?
Старик хотя и трясся весь, хотя и был пронизан ничтожностью, слабостью, но пользовался платком, и то, как он держал его — не комкая, а в трясущихся, будто запутавшихся в нитках, длинных, искореженных артритом пальцах, стараясь не смять… И то, как он укладывал платок в кармашек, и взгляд сосредоточенности, иногда мелькавший в прожекторе безумства вытаращенных из-под кустистых бровей мутных, ничего не разумеющих глаз… Вот эта истощенность, умаленье жизни, зажатой смертной немощью в угол, беспомощно озверевшей от отчаянья, — одна она прошибала уют моего мозга.
Я взял его за плечи.
— Вам. Нужно. Остаться. Здесь. Здесь. О вас. Позаботятся. Дедушка, посидите тут смирно, за вами придет медсестра.
Дед замычал, я едва расслышал.
— Я хотел бы. Хлеба.
Он свистел слюной, речевые мышцы не справлялись. Он уставился в пол и тряс головой.
И тут наконец что-то вспыхнуло передо мной, я понял, что старика так никто и не покормил за эти два дня, и неизвестно, сколько еще дней до того он не ел.
Я взял его за руку, мы потихоньку пошли на двор.
Само собой решилось, как мне провести остаток отпуска, и я сосредоточился на том, чтобы убедить себя, что ничего не произошло, да и на самом деле все в реальности оказалось терпимей, чем виделось: человек всегда страшен только издали, вблизи любой зверь человечней.
Старика звали Алексей Сергеевич, так он доложил мне, старик был вменяем, просто его надо было накормить и дать поспать, кто знает, сколько дней он шел, голодал, сколько натерпелся. Тут и здоровый человек кончится на полдороге. Для начала я его помыл, правда чуть не сблевал. Затолкал в сауну, срезал лохмотья, залил шампунем, кипятком, затер мочалкой. Старик стоял бесчувственно, я его разглядывал. Я любовался мощным костяком, скрюченным каким-то причудливым образом, скульптурным что ли, творец-подагра; само по себе голое тело сильней самого человека, потому что за ним правда. А тут Роден, не меньше. Потому я и отвернулся.
Мы были с ним одного роста, сколько ушло на усушку? но ворочать его было тяжелей, чем тягать мешок цемента, поясница срывалась, я мазался «тигровой мазью», так что теперь мы оба воняли — друг другом, и к концу недели я почувствовал, как сам стал рушиться, дряхлеть. Земля пошла у меня под ногами колесом, восьмеркой, я заметил, что стал покряхтывать и потихоньку передразнивать Алексея Сергеевича. Так исподволь вдруг понимаешь, идя по улице за калекой, что внезапно поместился в перекошенную клетку его движений, что все тело теперь распадается и скособочивается, боль в мышцах паучья, шею ломит, бедренная кость вывихом, локти бьют воздух. Вдобавок носил он мою одежду, и взгляд внезапный издали — на иероглиф из рубахи, портков, ботинок — швырял в лицо обрывок зеркала, я не сразу узнавал старика…
Старик вел себя вполне самостоятельно, не слишком беспокоил. Сидел там, куда его посадишь, мог продремать полдня, от завтрака до ужина, вот только к еде относился с трепетом, будто в нем всегда сидела память о мучительной голодовке, и сейчас бежал любого недоеданья.
Что-что, а ел старик отменно. Спросите любого врача: есть аппетит — есть здоровье. К тому же, оголодав за дорогу, старик наверстывал. Особенно ценил курицу. Я его прежде спросил:
— Что вы любите кушать?
Он помешкал. Не ответил. Помолчал час. Я и забыл — что спрашивал. Затем полуобернулся ко мне, хрипит:
— Курицу. Я люблю курицу.
Вот я ему и варил кур, одну на день. Жесткую грудину съедал сам, остальное ему. И бульон. С хлебом. Дед ел с большим аппетитом. Я ему когда курицу разламывал, видел, как трусится он весь, кушать хочет, следит глазами, и мне неловко было задерживаться, кромсал, все мягкие кусочки наперво ему выкладывал.
— Что, Алексей Сергеич, по зубам кура?
Вскоре я наведался в больницу, и Семенов порадовал: пришло сведение, что как раз в понедельник старика можно будет везти в Калугу, что там ждут, чтобы мы им стол накрыли.
А пока мне оставалось двенадцать дней побыть со стариком, я уж закручинился, но перестал: стыдно. Старик цеплялся за меня, как щенок, разумеющий, что помрет без присмотра, все время шел за мной, в глаза смотрел, я не знаю, что с ним приключилось. А кто собак не любит? Кто не любит того, что большое животное тебе преклоняется?
Теперь на все прогулки мы ходили вдвоем, я сбавлял шаг и отдавался полностью мысли выспросить деда о его жизни. Ничего толком узнать не удалось, но и того малого было достаточно: воевал летчиком, после войны учился на архитектора, а работал или нет — не помнил.
— Как фамилия ваша?
— Не помню.
— А то, что Алексеем Сергеевичем зовут, — помните.
— Это я придумал. Чтобы проще.
Я помолчал.
— А что про войну помните?
Старик попробовал что-то увидеть про себя, лицо его задрожало. Он покачал головой, приподнял руку.
— Не хочу. Вспоминать.
Я не унимался:
— А как же помните про то, что летчик, что Берлин на «пешке» летали бомбить? В летчики разве берут людей с вашим ростом?
— Помню только планшет. Курс черчу. Штурвал трясется. Облака, как горы. Земля течет в прорехах. Командир входит в пике. Дает команду. Ложусь на пузо. Дым, город набегает в лоб.
И тут я увидел прямо перед собой, как сначала в параболическом витраже бронированного стекла, потом в крестовике визира — плывет и вырастает ударом в лицо разрушенный город, смятые обугленные квадраты сот, оскал Рейхстага…
И, чтобы как-то занять старика, я решил варить в саду яблочное повидло. Поставил примус, на него таз, в тазу белый налив с сахарными барханами, течет яблочным духом густо в воздух — и пред жужжащим этим алтарем сквозь стекло веранды я вижу: Сергеич воспаряет в кресле, укрытый пледом, листва слагается в светоносный свод, и блик живет на его иссеченной шишковатой макушке; с отвисшей губой, с качнувшейся ниточкой слюны, вспыхнувшей длинно капельным бисером, он тянется к ручке примуса, чтобы подкрутить напор задохнувшегося пламени. Он перенял это движение от меня, полдня безмолвно сидевшего подле него с книгой — и теперь повторяет жест с нелепостью и тщанием младенца. Добавляю в яблоки лимонную стружку, корицу — пряность вспыхивает облачком, дед морщится, жмурится на солнце и чихает, как котенок… Чих для него катастрофа, он еще долго приходит в себя, выпрямляется, мышцы его лица живут в отдельной от времени гримасе, в мире замедленной съемки…
Ночью старик почти не спал. Лежать в темноте, на застеленной полиэтиленом скользкой постели, он не умел — кто бы согласился быть заживо погребенным в потемках? — садился к окну. Что увидишь в ночной темноте сада, какая птица стокрылая нахлынет, защиплет, замашет, забьется по глазам, щекам?.. Я просыпался ночью, различал его профиль, руку у подбородка; засыпал снова, а утром видел в той же позе, смотрящего слезящимися глазами в сад или дремлющего, свесив голову на плечо, вытянув по подоконнику руку… Я подглядывал за стариком, а ведь он и не знал, где он и с кем, и мне это нравилось и пугало: каково жить с неразумеющим тебя существом? Вот эта близость к животному и теплота человеческого мучения в глазах — все это сходилось, как кипяток с ключевой водицей, и голова моя была полна смятенья.