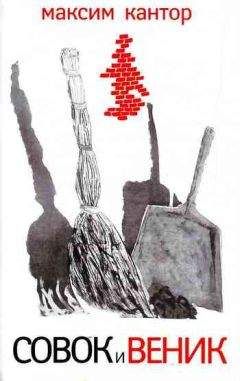Общая судьба
Однажды (и это было уже давно) я принял решение не выставляться в групповых выставках. Однажды решил – и никогда уже не ходил больше в общие кружки. По молодости я принимал участие в разных прогрессивных выставках неофициального, свободолюбивого и т. п. нонконформистского творчества. Однако с течением времени для меня стал крайне болезненным вопрос: а что именно нас объединяет, есть ли в моем представлении о свободе хоть что-нибудь, хоть малость, которая корреспондирует с прогрессивной риторикой соседей?
Совет ни с кем не выставляться мне дал Зиновьев – еще в девяносто третьем году, в ночном телефонном разговоре. Как и многие разговоры с ним, этот тоже помню отчетливо. Александр Александрович позвонил мне в лондонскую мастерскую среди ночи, зная, что я не сплю; была в нем эта поразительная черта: помнить, что он кому-то нужен. Накануне я сказал ему, что у меня бессонница, и он позвонил ночью. Как и всегда, он дал директивный совет. «Прекрати участвовать в групповых выставках. Правило простое, – сказал он тогда, – не притворяйся единомышленником тому, с кем у тебя общего быть не может. Все равно не получится. Не стоит стараться – береги время».
Подобно многим заявлениям Александра Зиновьева, это заявление тоже содержало внутри себя противоречие: человек, который призывал к одиночеству, являл в каждом поступке готовность к солидарности – он, усталый и немолодой, тяжело работавший днем, помнил, что нужен среди ночи мальчишке; и вот он звонит, разговаривает, сам не спит.
Это был драгоценный совет, хотя и бесконечно трудный для воплощения – хорошего он не сулил. И уж кому как не Зиновьеву было знать, каково это – отказаться от единомышленников. К тому времени как я получил этот директивный совет, все уже устроилось само: было понятно, что единомышленников нет, общие декларации невозможны – нечего вместе декларировать. Современное искусство я не любил так же осознанно, как прежде не любил соцреализм. Мало того, я и разницы никакой не видел между сегодняшним служением вертлявому мнению кураторов, которым надо егозить перед банкирами, – и прежним общением с секретарями райкомов и министерств. Новая форма лакейства столь же противна, как и старая, – с той только разницей, что новые лакеи имели опыт лакейства прежнего и должны были выработать иммунитет. Не выработали. Лакеям казалось, что раньше они были в унизительном рабстве, а теперь служат прогрессивному барину, и нынешнее состояние является не рабством – а сотрудничеством на взаимовыгодных началах. Рыночная мораль подарила обществу спасительный цинизм: прежде лакейство угнетало, сегодня оно рассматривается как разумное соглашение: мы им лижем задницу, они нам платят разумную зарплату. Оказалось, человек легко мирится с унижением, если знает, что его унижают прогрессивными методами, так же, как и прочих привилегированных холуев. Сегодня, как и при царе Горохе – у власти никогда не будет столь надежной защиты, как лакеи, как те, кого она унизила. Поди попробуй, тронь корпоративные ценности: барин, пожалуй, и не заметит, а мажордом и буфетчик – те не простят.
Культура может быть определена как общая судьба, то есть то, чего никак не избежать, и от чего стыдно увиливать. Однако принадлежать к той же самой культуре и к одному и тому же времени – не значит быть единомышленником своим соседям. Это принципиально разные вещи, и хорошо бы их понимать отчетливо.
Довольно трудно, например, вообразить себе единомышленников Гойи или Мантеньи, их не было просто потому, что Гойя (или Мантенья) обладали крайне сложным, весьма индивидуальным сознанием, и не было такой общей затеи, которой они могли бы поделиться с коллегами. Напротив, единомышленников Энди Ворхола не счесть – именно по той причине, что его сознание было принципиально ориентировано на массовое и ни одной оригинальной мысли в себе не удерживало.
Искусство, которое входит в каждый дом (так например, как вошли в каждый дом пейзажи импрессионистов, натюрморты малых голландцев и квадратики авангардистов прошлого века), это, несомненно, искусство большой группы лиц, являющихся единомышленниками. И не только между собой, не только внутри своей группы. Эти художники являются единомышленниками со своими потребителями, они воспроизводят логику рынка, логику декораций, общий принцип красивого. Импрессионисты были единомышленниками, и малые голландцы тоже были единомышленниками, и современные авторы инсталляций тоже все как на подбор единомышленники – оттого что они, по основному определению, мещане. В этом нет ничего особенно обидного, поскольку мещане – это наиболее представительный класс европейской цивилизации, и весьма разумно обслуживать именно его. Вопрос в том лишь, что именно следует нести в каждый дом: декорацию, законы рынка, амбиции купца или любовь к ближнему. Некогда церковь брала на себя эту функцию, но что заменит религиозную мораль и религиозную эстетику в секулярном обществе?
А то, что любовь – чувство сложное и расцветает именно в своей сложности, про это рассказывает только очень индивидуальная картина. И сегодня картина должна сыграть ту же роль, какую некогда сыграла икона – когда икона противостояла пышным языческим капищам.
Искусство Европы постоянно совершает этот шаг – прочь от картины, в сторону декорации частной жизни, парадов власти, домашнего покоя мещанина. И всегда возврат к римскому декоративному искусству и римской морали называют прогрессом: прогрессивным было Рококо, прогрессивным является современный сервильный авангард. От «римских цирков к римской церкви» (используя образ Пастернака) уйти не удается, снова и снова приходим на то же самое место, откуда начинали; они очень притягательны, эти цирки.
И всегда находится тот, кто возвращает картину в мир, вопреки моде, вопреки мнению соседей, и дает христианскому искусству новые силы. Малые голландцы – и Рембрандт, возвративший мелкой морали их натюрмортов – величие. Импрессионисты – и Сезанн с Ван Гогом, осмелившиеся рассказать рантье, что он хорош не потому, что у него есть пруд с кувшинками, но потому, что он человек. Салонные авангардисты – и Маяковский, который захотел подлинной революции, не революции квадратиков и комиссаров, но духовной. Сегодня нам кажется, что рынок необорим, а мнение прогрессивного большинства неоспоримо, – но это, слава богу, заблуждение: и прогресс, и деньги, и мода, и общее мнение – суть вещи преходящие. Достаточно одного-единственного голоса против, чтобы власть рынка и рыночной свободы перестала быть безусловной. Нужен лишь один свидетель, чтобы лакейство было поименовано лакейством, а вранье стало известно как вранье. Такие свидетели всегда находились в истории искусств. Одного достаточно.
Малые голландцы и Рембрандт принадлежат одной культуре, но единомышленниками они ни в коем случае не являются, хотя, видит Бог, про единение Рембрандт понимал как никто другой. И хотел единения больше, чем кто-либо, – посмотрите на «Блудного сына».
Однажды единение наступит, и сын встретится с отцом – то будет волнующее, прекрасное единение. В нем не будет и следа мещанской морали: чтобы у меня было так же красиво, как у соседа. В таком единении будут слиты не нации, но люди; не стили, но сущности; не амбиции, но страсти. И в таком единении не будет места гордыне художника, Рембрандта, или кого бы то ни было еще. Художник не сделал ничего особенного – он состоит из других людей, он есть сгусток их опыта, и только. Он представляет их всех, но любой из них – столь же прекрасен, как и он. Я бы хотел, чтобы в моих картинах остались мои близкие, чье тепло грело меня всю жизнь, чьи лица в моей памяти постоянно. Я хочу, чтобы на картинах осталось лицо моего дорогого папы, я хочу уберечь его от тлена, я хочу, чтобы его навсегда запомнили таким, каким он был, – с огромным лбом, глубокими темными глазами. Я хочу сохранить на холсте голубые глаза своей мамы, хочу сохранить в памяти ее руки, которые на ощупь походили на свежеиспеченный хлеб, – это меня Катя научила, сам я не замечал. Я хочу, чтобы прекрасные черты моей Кати остались навсегда – и еще многим она смогла бы отдать свое тепло. И все, все, все – мой драгоценный Гоша, его дети и мои внуки, моя дорогая Дарья, мой добрый брат Владимир и его дети – они говорят через меня, а самого меня, скорее всего, уже просто нет. Человек состоит из других людей, и только тогда искусство делается искусством, когда растворяется в мире без остатка. Одного, конечно же, недостаточно. Одного не достаточно никогда.
Юность я прожил в рабочем районе Москвы. Коптево – нехорошее место. Скверное.
Мы оказались в сером блочном доме, тесном и нечистом. Красный двухвагонный трамвай делал поворот под окнами, лязгал, скрипел, содрогался. Лежа без сна, я слушал. Звуки стихали во втором часу ночи и возобновлялись в шесть утра.