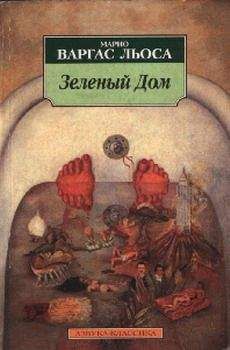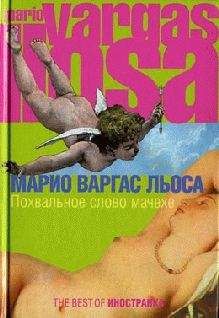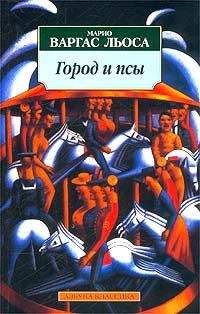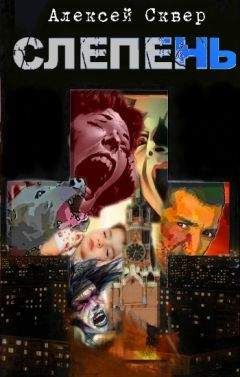Темная фигура отстранила обеих воспитанниц и, сгорбленная, волоча ноги, с угрюмым видом выступила вперед: наконец-то она вспомнила о ней, неблагодарная, но Бонифация уже бросилась к ней, и мать Анхелика зашаталась в ее объятиях. Губернатор и остальные гости принялись за пирожки — это она, ее мамуля, все приготовила, а мать Анхелика — ни разу не пришла проведать ее, бесовка, но Бонифация думала о ней день и ночь, даже во сне ее видела, и мать Анхелика — попробуй вот эти, и эти, и соку выпей.
— Она меня даже не впустила в кухню, дон Фабио, — говорила мать Гризельда. — На этот раз вам надо хвалить не меня, а мать Анхелику. Это она все приготовила для своей любимицы.
— Чего я только не делала для нее, — сказала мать Анхелика. — И нянькой ее была, и служанкой, а теперь вот стала ее кухаркой.
Она старалась сохранить угрюмое и сердитое выражение лица, но у нее уже пресекся голос, и она хрипела, как язычница; вдруг глаза ее увлажнились, рот скривился, и она разразилась слезами. Пергаментной скрюченной рукой она поглаживала Бонифацию, а монахини и жандармы между тем передавали друг другу блюда и наполняли стаканы, отец Вилансио и дон Фабио хохотали, а сеньора Паредес шлепала одного из своих малышей, взобравшегося на стол.
— Как они ее любят, дон Адриан, — сказал сержант. — Как они ее балуют.
— Но зачем столько слез? — сказал лоцман. — Ведь в душе они очень рады.
— Можно мне отнести им что-нибудь, мамочка? — сказала Бонифация, указывая на воспитанниц, выстроившихся в три ряда перед главным зданием. Некоторые из них улыбались ей, другие робко махали рукой.
У них тоже сегодня праздничный завтрак, — сказала начальница. — Но пойди обними их.
— Они приготовили тебе подарки, — пробормотала мать Анхелика, у которой еще подергивались губы и лицо было мокрое от слез. — И мы тоже. Я сшила тебе платьице.
— Мне надо каждый день навещать тебя, — сказала Бонифация. — Я буду тебе помогать, мамуля, буду, как прежде, выносить мусор.
Она покинула мать Анхелику и пошла к воспитанницам, которые, рассыпав строй, с радостным криком побежали ей навстречу. Мать Анхелика пробралась через толпу приглашенных к сержанту, и, когда подошла к нему, лицо ее, уже не такое бледное, как минуту назад, снова приняло суровое выражение.
Ты будешь ей хорошим мужем? — проворчала она, дернув его за рукав. — Смотри, если будешь ее бить, смотри, если станешь путаться с другими женщинами. Ты будешь с ней хорошо обращаться?
— Как же иначе, матушка, — смущенно ответил сержант. — Ведь я ее так люблю.
— А, проснулся, — сказал Акилино. — За все время, что мы плывем, ты первый раз так заспался. До сих пор было наоборот: ты смотрел на меня, когда я открывал глаза.
— Мне снился Хум, — сказал Фусия. — Всю ночь у меня перед глазами стояло его лицо, Акилино.
— Я несколько раз слышал, как ты стонал, а раз мне даже показалось, что ты плачешь, — сказал Акилино. — Все из-за этого?
— Странная вещь, старик, — сказал Фусия, — к тому, что происходило во сне, я не имел никакого отношения, дело касалось только Хума.
— И что же тебе снилось? — сказал Акилино.
— Что он умирает на той отмели, где Пантача готовил свои отвары, — сказал Фусия. — И кто-то подходит к нему и говорит — пойдем со мной, а он — не могу, я умираю. Только это и снилось, старик.
— Может, так оно и было на самом деле, — сказал Акилино. — Может, он умер вчера и его душа прощалась с тобой.
— Наверное, его убили уамбисы, они его ненавидели, — сказал Фусия. — Ну подожди, не надо так, не уходи.
— Ты только зря меня мучаешь, Фусия, — тяжело дыша сказала Лалита. — Каждый раз одно и то же. Зачем ты зовешь меня, если не можешь.
— Нет, могу, — крикнул Фусия, — только ты хочешь, чтоб сразу, не даешь даже распалиться и злишься. Нет, могу, стерва.
Лалита лежала на спине, отодвинувшись на край гамака, который поскрипывал, качаясь. Голубоватый свет проникал в хижину через дверь и щели вместе с теплыми испарениями и ночными шорохами, но в отличие от них не достигал гамака.
Ты думаешь, я дура и ничего не понимаю, — сказала Лалита.
— Просто у меня дела на уме, и мне надо сначала отвлечься от этих мыслей, но ты не даешь мне времени. Я же человек, а не животное.
— Все дело в том, что ты болен, — прошептала Лалита.
— Все дело в том, что мне противны твои прыщи! — крикнул Фусия. — Все дело в том, что ты постарела. Я только с тобой не могу, а с любой другой сколько хочешь.
— Других ты обнимаешь и целуешь, но и с ними не можешь, — медленно выговорила Лалита. — Ачуалки мне рассказали.
— Ты сплетничаешь с ними про меня, стерва? — взревел Фусия, так затрясшись от злобы, что гамак заходил ходуном. — С язычницами сплетничаешь про меня? Хочешь, чтоб я тебя убил?
— Хочешь знать, куда он уезжал каждый раз, когда исчезал с острова? — сказал Акилино. — В Санта-Мария де Ньеву.
— В Ньеву? А что ему было там делать? — сказал Фусия. — Откуда ты знаешь, что Хум уезжал в Сайта-Мария де Ньеву?
— Я недавно узнал, — сказал Акилино. — В последний раз он удрал месяцев восемь назад, верно?
— Я уже почти потерял счет времени, старик, — сказал Фусия. — Но пожалуй, так, месяцев восемь. Ты встретил Хума, и он тебе рассказал?
— Теперь, когда мы уже далеко, я могу тебе сказать, — промолвил Акилино. — Лалита и Ньевес живут там. И вскоре после того, как они добрались до Сайта-Мария де Ньевы, к ним заявился Хум.
— Значит, ты знал, где они? — задыхаясь, выговорил Фусия. — Ты помог им, Акилино? Выходит, ты тоже сволочь? И ты меня предал, старик?
— Поэтому ты и стыдишься, и прячешься ото всех, и не раздеваешься при мне, — сказала Лалита, и гамак перестал скрипеть. — Но разве я не чувствую, как у тебя воняют ноги? Они гниют у тебя, Фусия, а это похуже, чем мои прыщи.
Гамак опять заходил из стороны в сторону, и снова жалобно заскрипели столбы, но теперь уже дрожала Лалита, а не Фусия. Он весь съежился и замер под одеялами, не в силах вымолвить ни слова, и глаза его, полные ужаса, горели в темноте, как два трепещущих огонька.
— Ты тоже меня оскорбляешь, — пролепетала Лалита. — И если с тобой что-нибудь случается, всегда я виновата. Вот и сейчас — ты меня позвал, и ты же еще сердишься. У меня тоже злость закипает, и с языка срывается бог знает что.
— Это все москиты, пропади они пропадом, — тихо простонал Фусия, и его голая рука бессильно упала на одеяло. — Они искусали меня и заразили какой-то хворью.
— Да, москиты, а ноги у тебя вовсе не воняют, и ты скоро вылечишься, — всхлипнув, сказала Лалита. — Не обижайся, Фусия, я ведь это так, сгоряча, мало ли что наговоришь со злости. Принести тебе воды?
— Эти собаки строят себе дом? — сказал Фусия. — Они собираются навсегда остаться в Сайта-Мария де Ньеве?
— Ньевеса законтрактовали как лоцмана тамошние жандармы, — сказал Акилино. — Туда прибыл новый лейтенант, помоложе, чем тот, которого звали Сиприано. А Лалита ждет ребенка.
— Дай Бог, чтоб он подох у нее в брюхе и чтоб она тоже подохла, — сказал Фусия. — Но скажи мне, старик, разве не там его вздернули? Зачем Хум ездил в Сайта-Мария де Ньеву? Хотел отомстить за себя?
— Он ездил из-за этой старой истории, — сказал Акилино. — Требовать каучук, который забрал у него сеньор Реатеги, когда приезжал в Уракусу с солдатами. Хум, конечно, ничего не добился, а Ньевес понял, что он уже не в первый раз приезжает жаловаться, что только ради этого он и удирал с острова.
— Он ездил жаловаться жандармам в то время, как работал со мной? Неужели он не понимал, чем это пахнет? Мы все могли погореть из-за этой скотины, старик.
— Верней, из-за этого сумасшедшего, — сказал Акилино. — Подумать только — сколько лет прошло, а он все свое. Умирать будет, а не выкинет из головы того, что с ним случилось. Такого упрямого язычника, как Хум, я еще не встречал, Фусия.
— Это все москиты и водяные пауки, — простонал Фусия. — Они искусали меня, когда я залез в бочагу вытащить подохшую черепаху. Но ранки уже подсыхают, а когда чешешься, они гноятся, оттого и пахнет, дура.
— Не пахнет, не пахнет, — сказала Лалита, — это я со злости, Фусия. — Раньше ты всегда хотел меня, и мне приходилось придумывать отговорки — у меня месячные, не могу. Почему ты так изменился, Фусия?
— Потому что ты стала старая, дряблая, а мужчин тянет только на ядреных баб! — закричал Фусия, и гамак запрыгал. — Москиты тут ни при чем, сука.
— Я и не говорю про москитов, — прошептала Лалита, — я же знаю, что ты лечишься. Но по ночам ты мне делаешь больно. Зачем же ты зовешь меня, если я такая, как ты говоришь? Не мучай меня, Фусия, не заставляй меня ложиться в твой гамак, раз ты не можешь.
Нет, могу — крикнул он, — когда хочу, я могу, но с тобой не хочу. Уходи отсюда и попробуй только заговори о москитах, я всажу пулю туда, где у тебя так болит. Пошла вон!
Лалита подняла москитную сетку, встала и бросилась на другой гамак. Тогда он наконец замолчал, но столбы все еще скрипели время от времени — Фусия, как в лихорадке, метался и ворочался. Лишь много позже в хижине воцарилась тишина, нарушаемая только ночным дыханием леса. Лежа на спине с открытыми глазами, Лалита поглаживала рукой чамбирные веревки гамака. Одна нога у нее вылезла из-под москитной сетки, и десятки крохотных крылатых врагов атаковали ее, кровожадно набросившись на пальцы и ногти. Почувствовав, как они пускают в ход свое оружие — тонкие, длинные хоботки, Лалита ударила ногой о столб, и они обратились в бегство, но через несколько секунд вернулись назад.