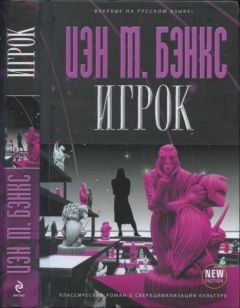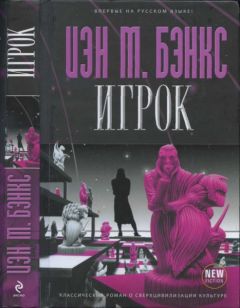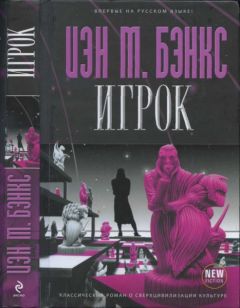— Обещаю, — говорит он.
Верушка отпускает его и смотрит ему в глаза, в каждый по отдельности.
— Ты ведь не помнишь, что было ночью, правда?
Он недоуменно поднимает брови, склоняя голову набок.
Она улыбается.
— После того. Ты говорил о своей матери. Во сне.
Похоже, он неприятно удивлен.
— Я? За мной такого не водится.
— Значит, есть какая-то другая Ирэн, она же мама.
— Боже, — вырывается у него; взгляд устремляется в направлении подъездной аллеи, ведущей к морской бухте, которая отсюда не видна. — Подожди-ка. Я помню, ты меня разбудила.
— Точно, — кивает она.
Он отводит глаза в сторону.
— Ну ладно.
— Не важно, — говорит она с еще одним, последним поцелуем. — Увидимся в понедельник утром. Иди в дом, позавтракай.
— Эй, слушай, — говорит он, все еще держа ее за руку. — Если попадешь под дождь или если просто передумаешь, возвращайся. В любой момент. Если не найдется возможности побыть здесь вместе, снимем комнату в Инхнадамфе. Да и Нил Макбрайд с женой всегда нас пустят.
Она останавливается, опять кладет ему на грудь голову и говорит:
— Предпочитаешь не оставаться здесь со своей родней?
— Эх, могли бы с тобой пробраться в северное крыло, захватить несколько поленьев, растопить камин, — говорит он. — Нет, ладно. Если что — возвращайся. Не задерживайся.
— Договорились, — отвечает она, протягивая ему руку для поцелуя.
Верушка проскальзывает в свой «форестер», заводит его и, выезжая по гравиевой дорожке, машет рукой через окно. Он тоже машет и смотрит ей вслед, пока автомобиль не исчезает за деревьями.
Повернувшись, Олбан идет назад в огромный дом.
— Было время — член у меня не останавливался, — сказал ему Блейк, — а теперь сердце и то останавливается.
Олбан улыбнулся, пытаясь одновременно изобразить сочувствие.
— Неужели так скверно?
— Достаточно скверно. Врачи говорят, пить надо меньше. — Блейк поднял стакан виски с содовой и посмотрел на него с печальной укоризной, как на старого друга, не оправдавшего его доверия. — Наверно, понадобится тройное шунтирование.
— Ну, в наше время это уже довольно рядовая операция.
— Возможно, только меня от одной мысли с души воротит. Это ведь как: разрезается грудина, раздвигаются ребра, представляешь? Огромные стальные зажимы. Страшно. — Он покачал головой. — Кроме того, любая операция связана с риском. Какая-то нестыковка. Врачебная ошибка. Инфекция.
— Я уверен, у тебя все будет нормально, Блейк.
— Ну-ну, — буркнул Блейк, отпив еще немного виски с содовой.
Олбан не виделся с Блейком со времени промежуточного года. На этот раз он прибыл в Гонконг для встречи со специалистами по развитию производства и владельцами заводов из Шеньзеня, чтобы подготовить почву для создания нового дизайна доски и фигур «Империи!». Гонконг, с одной стороны, очень изменился, а с другой — остался прежним. Приземление в новом аэропорту оказалось менее захватывающим/жутким; здания, которые находились — Олбан был в этом уверен — на расстоянии одного квартала от моря, были теперь в шести-семи кварталах, потому что у моря были отвоеваны и немедленно застроены новые земли, в результате из гавани давно исчезли китайские джонки и сампаны.
При этом в городе по-прежнему стояла влажная жара, а на улицах была все та же страшная скученность, причем китайцы, как и раньше, без зазрения совести плевали на тротуар, кашляли и чихали прямо в лицо прохожим, распихивали их локтями и плечами, а тот, кто замешкался у них на пути, мог запросто получить пинка. Шаткие, дистрофично-тощие деревянные трамвайчики готовы были вспыхнуть от оброненной спички, а стук, доносящийся из залов для игры в маджонг, по интенсивности уступал лишь пульсирующим облакам удушливого дыма, валившего из тех же дверей.
— Ладно, не важно, — сказал Блейк. — Хорошо, что ты меня проведал. Никто из семьи этого не делает.
— Грустно слышать, — сказал Олбан.
Блейк сделал неопределенный жест вроде шлепка по воздуху. Он еще сильнее похудел и от этого казался выше ростом. При встрече на нем была большая мягкая панама, делавшая его похожим на функциональную настольную лампу с шарнирной стрелой.
Они расположились в саду на крыше небоскреба Блейка. Здание все еще находилось в гавани, так как в этом месте у моря еще не отвоевали дно. По крайней мере на тот момент. Сидели они на высоте ста с лишним метров, в тени широкого навеса; несмотря на умеренный бриз, жара была адская. Пить полулежа еще как-то получалось, но при мысли о том, чтобы совершить какое-нибудь движение, требующее усилий, например встать и пройтись, пот начинал катиться градом.
Олбан думал, не попытаться ли разговорить Блейка, чтобы тот побольше рассказал о семье и о причинах своего отчуждения. Он ведь и сам был на грани разрыва с кланом. После того случая, с месяц назад, когда Уин за завтраком устроила ему выволочку, он все больше склонялся к тому, чтобы послать все к чертовой матери. Теперь он всегда носил с собой в конверте заявление об отставке, как некоторые носят ампулу с ядом на случай вынужденного самоубийства. Может быть, ему требовался лишь последний толчок. Не станет ли им разговор с Блейком и сравнение их позиций? Впрочем, обстоятельства у них были различны: Блейка выгнали за растрату, а он просто подумывает отойти от дел после честной, добросовестной работы в течение последних нескольких лет. Ему не грозило ни наказание, ни изгнание. Он рассматривал вариант почетной отставки, а не позорной, как в случае с Блейком.
— Ты так и не пытался установить контакт с кем-нибудь из наших? — спросил он у Блейка, отхлебнув ледяной воды из своего стакана.
Он сидел босиком, в рубашке с короткими рукавами и ослабленным галстуком. У Блейка вид был еще менее официальный: тоже босиком, в мешковатых шортах и свободной шелковой рубашке. Теплый бриз приносил запах жасмина: в саду на крыше цвели десятки кустов.
— Честно говоря, нет, — признался Блейк. — Обо мне предпочли забыть. В особенности твоя бабушка. — Она сейчас вожак стаи, да?
— Уже давно, — согласился Олбан. — И в семье, и в фирме.
— У нас с ней полная взаимность, — сказал Блейк с некоторой грустью. — Впрочем, у меня здесь своя жизнь. Причем неплохая. Я преуспел. Не жалуюсь. Мне…
Тут завибрировал мобильник, лежавший между ними на низком столике из тикового дерева.
— Извини, — сказал он Олбану. — Да? — Немного послушав, он ответил: — Нет, меня это ни в коей мере не устраивает, даже отдаленно. Передай ему, что это просто оскорбительно. Мы обратимся в другое место. — Он еще послушал. — Да, и я тоже, а мои люди будут диктовать его людям, что делать. Так и передай: пусть только попробует. — Почти без паузы Блейк перешел, насколько понял Олбан, на беглый кантонский диалект и возбужденно говорил не менее минуты, а затем отрезал: — Так и сделай. Остальное потом. Удачи. — Он вернул трубку на столик. — Извини: сделка, должна вот-вот состояться или сорваться. Не могу отключить эту проклятую штуку. Ты-то пользуешься мобильником? Мне приходится постоянно держать его при себе, как и всем остальным, и зачастую это весьма кстати, но временами я начинаю его ненавидеть. Понимаешь меня?
— Прекрасно понимаю, — ответил Олбан. — Кажется, что все тобой помыкают.
— Вот именно, — кивнул Блейк и отхлебнул виски.
— Но иногда можно и отключить, — напомнил Олбан.
— Так-то оно так, — сказал Блейк. — Но тогда начинаешь беспокоиться, не пропустил ли что-то важное. — Он покосился на мобильник. — Пропади она пропадом, эта чертова штука.
Его взгляд устремился вдаль, на окутанный дымкой город. Тонкие черточки, которые при внимательном рассмотрении оказывались воздушными лайнерами, скользили по небу в сторону аэропорта, ныне удаленного от центра.
— Тебе сейчас сколько — тридцатник?
— Почти, — ответил Олбан.
Помолчав, Блейк сказал:
— А случалось ли тебе задуматься: к чему все это? — Он посмотрел на Олбана, который в ответ глянул на него, усомнившись поначалу, что Блейк говорит серьезно. — К чему суетиться? — Лицо его приняло скорбное выражение. Он опять посмотрел вдаль. — Наверно, к старости становлюсь брюзгой. Не помню, чтобы я в молодые годы задавался такими вопросами. Похоже, это подкралось незаметно, как и сердечная недостаточность. Тебя не посещают такие мысли?
— Какие именно: насчет бессмысленности бытия?
— Можно и так сказать.
— Крайне редко. В юности бывало. Студенты любят порассуждать на такие темы.
— Значит, я один такой, — угрюмо сказал Блейк и выпил еще.
— Вовсе нет, Блейк. У многих бывает такое ощущение, по крайней мере временами. Мне кажется, по этой причине так много народа обращается к религии.
Блейк кивнул:
— Я ведь опять стал молиться, подумать только! На самом-то деле просто разговариваю сам с собой. — Он покачал головой. — Глупо, в сущности. — Он взглянул на Олбана. — Мне казалось, к данному моменту я уже определил свои позиции. А выходит, что обманулся и вынужден снова обдумывать вещи, которые, как ты говоришь, можно было оставить за спиной в юном возрасте. — Он разглядывал стакан на свет. — Сдается мне, я похож на большинство: прожил жизнь, ожидая, когда она начнется, понимаешь? Как будто ждал разрешения от родителей, от Бога, от вожаков-сверстников или незнамо от кого, — чтобы наконец принять ответственность за свои поступки, за собственную жизнь. А разрешение не дается сверху, и постепенно — ну, постепенно для меня, за других не стану говорить: возможно, к ним приходят какие-то внезапные откровения, или озарения, или что там еще, — постепенно начинаешь понимать, что ничего другого не будет: прожил как прожил — оступаясь, или твердо шагая по жизни, или порхая по ней половину отведенного времени, — но это все, что у тебя есть, иного не дано. Из-за этого я чувствую себя обманутым. Иногда мне кажется, что я обманул сам себя, хотя и не понимаю, в какой момент мог бы пойти другим путем. Меня преследует мучительное желание сесть в машину времени, вернуться в прошлое и предостеречь себя молодого или по крайней мере кое-что посоветовать, но при этом я знаю, что он — то бишь я — вообще не понял бы, о чем толкует возвращенец из будущего. Решил бы, что это какой-то чокнутый свалился как снег на голову. Не стал бы его слушать. Не стал бы слушать себя.

![Адель Кутуй - Неотосланные письма [Повесть и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/111709/111709.jpg)