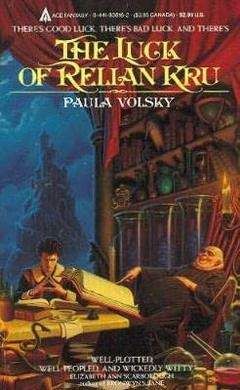Третий удар. И четвертый.
Четверка всегда была ее любимое число. Она и в школе, как правило, получала только четверки. Аттестат – выставка четверок, кроме высших баллов по алгебре и геометрии.
До трех считают только дураки. Умные люди знают: на раз-два-три ничего не происходит. Нужно добавить еще один раз.
А вот китайцы не любят четверку, по-китайски «четыре» звучит как «смерть».
Он не выключился, продолжал стонать, оскаленный, залитый кровью, шипел «с-с-с-у-у-у-к-а-а-а...» – но почти не шевелился, и она рванулась к сумке, достала наручники, схватила людоеда за скользкую руку, потащила, он оказался очень, очень тяжелый, пришлось упираться изо всех сил – хорошо, что не более метра пространства отделяло кровать от окна, от трубы отопления под толстой деревянной пластиной подоконника.
Приковала одну руку, вернулась к сумке, вытащила вторые браслеты, сомкнула железо на запястье, но упырь уже пришел в себя.
Захрипел угрозы, оскалился, подтянул под себя ноги, и она вцепилась зубами в его пальцы.
Пока тянулась к трубе – он дважды попытался ударить ее головой. Двойка – цифра быстрая и сильная, но удары не получились, спустя мгновение зубчатый замок издал серию быстрых щелчков; она отпрянула.
– Тварь... – простонал упырь. – Зачем, тупая ты тварь... Зачем?
Она снова взяла пепельницу. Подшагнула. Подняла над головой.
– Я буду бить тебя, пока твоя башка не лопнет.
– Стой... Не... – он разлепил затекший кровью глаз. – Не надо.
– Это тебе за Бориса, – сказала она и ударила.
Упырь завыл.
– А это за Мудвина, – и опять ударила.
Упырь замолчал.
Мужчина беззащитен, когда извергает семя. Он ничего вокруг себя не видит и не слышит. Женщина тоже беззащитна в момент выброса животного электричества – но она и в другие моменты беззащитна; она всегда беззащитна. А самец – настороже, к самцу просто так не подойти, и если хочешь достать его – приходится хитрить, подкрадываться, брать его за яйца, ждать, когда он задрожит и застонет, извергаясь.
И тогда у тебя будет ровно четыре секунды, чтобы разбить ему голову чем-нибудь тяжелым.
Она опять потянулась к сумке, достала баллончик с газом. Отшвырнула опоганенные кровью и семенем простыни, села на постель.
Пнула ногой, упырь засопел, поднял голову. Простонал:
– Послушай... Иди в ванную, возьми там... Перекись... Промой мне...
– Обойдешься.
– Зачем ты...
– Сам знаешь. А теперь говори, как ты Мудвина убил.
– Какого Мудвина...
– Олега Брянцева! Зачем ты его убил?
– Зачем мне Олег Брянцев... Кто такой Олег Брянцев?
– Ты знаешь! Он был ни при чем, понял?! А ты его убил. А Борис? Ты решил доить его, как корову?! Ты думал, что я тебе буду помогать?! Ты думал, что я позволю тебе погубить его? Человека, которого я люблю?
– Отстегни меня.
Мила вытянула руку с баллончиком.
– Заткнись. Ты – животное.
– Мы все животные.
– Не все! – крикнула Мила. – Не все!! Понял, нет? Олег Брянцев не был животным! А ты его убил!
– Да пошла ты... – завыл упырь, но она нажала на кнопку, и перцовый газ ударил прямо в багровую морду.
– Что? Больно? Борису тоже было больно. И Мудвину. Ты зря с нами связался. Я тебя сама сожру. Прямо здесь. Про тебя никто не вспомнит. По тебе никто не заплачет.
– Дура... Дура...
– Не приближайся к нам больше. Никогда. Иначе хуже будет. Понял, нет?
Подождала – ответа не получила. Упырь смотрел одним глазом, второй заплыл, – и вдруг улыбнулся слабой вежливой улыбкой. Словно ничего не было: ни ударов пепельницей, ни прокушенных до кости пальцев, ни перцового газа.
У нее тоже защипало в носу, заслезились глаза. Открыла форточку, вышла в зал.
Этажом выше уронили что-то не слишком тяжелое. Может быть, муж отрезал жене голову и не удержал в руках.
«Вот, – подумала она, – смотришь снаружи на эти дома-муравейники, на желтые окна и думаешь, что там ничего не происходит. Едят, пьют, дремлют. А на самом деле везде страсти, кровь... Вот тебе частная жизнь. На самом деле нет ее, человек не умеет просто дремать и жевать».
Включила телефон, набрала Шамиля.
– Наконец-то, – сказал он. – Где ты пропадаешь?
– Где надо, – сухо ответила она. – Шамиль, я... В общем... Ты должен срочно позвонить своим людям. Запиши адрес, пусть они едут. В смысле, милиция... Как можно быстрее... Я нашла его. Я знаю, кто убил.
– Я тоже знаю, – сварливо сказал Шамиль. – Мужика приняли час назад. Сам пришел... Дмитрий Горчаков, шестьдесят седьмого года рождения. Знаешь такого?
– Нет... – прошептала она. – Вернее, да...
– «Нет» или «да»? – раздраженно переспросил Шамиль. – Не путай старого татарина. Это твоей подружки приятель. Я же говорил: бытовуха. Убийство из ревности. Зарезал, вернулся домой, проспался, протрезвел – и пошел сдаваться. Нож принес, всё рассказал... Чистая явка с повинной. Между прочим, приличный парень, очень умный, статьи в журналы пишет... Убитый увел у него девушку. Марию Монахову. Твою подругу. Так что вопрос закрыт. До конца недели даю тебе отгул, а в понедельник чтобы была на работе. Иначе старый злой татарин будет недоволен...
У нее подогнулись ноги. Упала на диван, запах газа не выветривался, текли слезы, много слез, никогда так не плакала, даже в детстве.
Этажом выше тоже плакала женщина – только в полный голос. Обвиняла, проклинала и угрожала.
Потом успокоилась, вернулась в спальню. Упырь сидел, уронив голову, кровь текла по лицу, тяжелыми каплями падала с кончика носа на живот.
Его не было жаль.
Себя было жаль, очень, и больше никого. Да и себя, в общем, тоже не за что жалеть. Всё уже сделано, кого теперь жалеть, о чем жалеть, зачем?
– Эй, – позвала она. – Где, говоришь, у тебя бинты?
Она пришла злая, агрессивная, красивая, двигалась порывисто, сходу начала дерзить, это не шло ей, но делало более интересной; Кирилл решил, что гостья решила поиграть в «плохую девчонку», но потом одернул себя: в ее возрасте хорошие девчонки, как правило, уже наигрались в плохих и либо окончательно заигрались, либо опять спешат стать хорошими. Что-то не так, решил он, приготовлен сюрприз, надо обезоружить ее, ударить первым. И заговорил.
О том, что Борис уже проглочен. Не целиком, но наполовину. О том, что теперь он, Кирилл Кактус, благородно предлагает своей подруге разделить с ним скромную трапезу. О том, что никто не пострадает. Ведь пища, если родилась пищей, не может страдать, когда ее глотают, ибо выполняет свое предназначение. Сладкий мальчик Борис физически будет цел и невредим, более того – доволен и даже, возможно, счастлив. Будут и деньги на жизнь безбедную, и машина красивая. И жена, еще красивее машины. Сладкий мальчик получит всё, к чему лежит душа, и даже не заметит, что всё это произойдет уже в желудке Кирилла Кораблика.
Гостья слушала, усмехалась, очаровательно хамила, и Кирилл наслаждался откровенной беседой, а откровенная беседа с женщиной хороша тем, что впоследствии гарантирует откровенное совокупление, которое много лучше стандартного совокупления. Что может быть скучнее и презреннее обычного совокупления? Зачем совокупляться обыкновенно, если можно совокупляться искренне и свободно, не стесняясь самых нелепых и диких фантазий, когда доверие так велико, что хочется плакать от восторга или не плакать, а выть, что, в общем, одно и то же? Когда речь идет не о каком-то «оргазме», а о прыжке в космос?
Но когда он увидел свой космос, свои звезды, в идеальном порядке расположенные в идеальной пустоте, на голову его обрушили удар, и невыносимо громко загудел огромный колокол, и звезды, сорвавшись с мест, закружились перед глазами, вспыхнули разноцветно, обращая всё вокруг в хаос боли и паники.
Закричал, пытался закрыться рукой, но пропустил второй удар, еще более сильный, и открыл глаза, и увидел, что женщина хочет убить его, и она прекрасна.
Особенно когда двумя руками вздела над головой свое оружие, и груди ее поднялись высоко и изменили форму, обратившись в эллипсы, а глаза от гнева стали почти черными. Не умея ни отвести взгляда, ни пошевелиться, он смотрел, как она изгибается, готовя удар, как спешит прикончить свою жертву, как страх вытесняется отвагой, видел всё сразу: и яростно стиснутые зубы, и прилипшие к мокрому от пота лбу пряди, и ребра, выступившие по бокам живота. Изгиб ее был животным, кошачьим; она, без сомнения, родилась хищницей. Нападая и разрушая чужую плоть, раздирая в кровь чужую кожу, она становилась собой.
Третий удар лишил его чувств, но ненадолго. Когда волокла его к окну и пристегивала наручниками – он уже всё понимал и мог бы, наверное, если не вырваться, то всерьез помешать. При желании мог защититься ногами даже в тот момент, когда прекрасная палачиха сковала оба запястья.