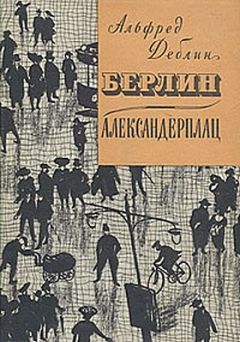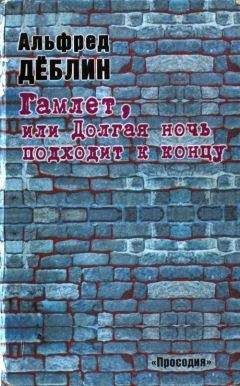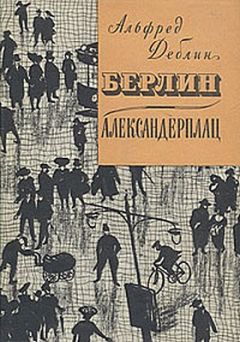Но, как уже сказано, Франц с ним вскоре распрощался навсегда. Покончил он с политикой сам — вмешательства Мицци и Евы даже не потребовалось. Случилось это так.
Как-то, поздно вечером, Франц сидел в пивной за столиком с немолодым уже столяром, с которым Вилли познакомил его на одном из собраний. Сам Вилли стоял у стойки и обрабатывал какого-то посетителя. Франц облокотился на стол, подпер голову рукой и слушал столяра. Тот рассказывал:
— Знаешь, коллега, я хожу на собрания только потому, что у меня жена больна. Я ей по вечерам мешаю, ей нужен покой. В восемь часов, минута в минуту, она принимает снотворное, пьет чай, и в постель, тут уж приходится гасить свет. Что ж мне остается тогда дома делать? Вот и идешь в пивную. Когда жена больная, недолго и пьяницей стать.
— А ты положи ее в больницу. Дома — это, знаешь, не то.
— Лежала она у меня и в больнице, да пришлось взять ее оттуда. Кормили плохо, да и вылечить не вылечили!
— Что ж, она очень больна, твоя жена?
— Матка у нее приросла к прямой кишке или что-то в этом роде. Ей уж и операцию делали — ничего не помогает. Живот вскрывали. Теперь доктор говорит, что это все от нервов и что у нее больше ничего нет. А у нее боли, целый день криком кричит.
— Скажи пожалуйста!
— Доктор-то этот, пожалуй, скоро ее и вовсе в здоровые запишет. С него станется. Ее уж два раза вызывали на переосвидетельствование к врачу при больничной кассе, да она, знаешь, не пошла. Он бы как пить дать написал, что она здорова. Нервы — это у них не болезнь!
Франц слушал столяра и думал свое: ведь он и сам был болен, руку ему отняли, в Магдебурге в клинике он лежал. А теперь это все позади и не волнует его, это совсем иной мир.
— Еще пивка?
— Пожалуй!
Столяр поглядел на Франца.
— Ты в партии, коллега?
— Был когда-то, а теперь — нет. Не имеет смысла. К их столику подсел хозяин пивной, поздоровался со столяром, справился о детях, а затем говорит ему вполголоса:
— Что, Эдэ, никак, ты опять в политику ударился?
— Мы как раз о политике говорили! А заниматься ею и не думаю!
— Правильно делаешь, Эдэ! Я всегда говорю, и мой сын говорит то же самое: на политике и гроша не заработаешь. Кому другому она, может, и на пользу идет, да только не нам.
Столяр поглядел на него, прищурив глаза.
— Вот как! Стало быть, мальчонка твой, Август, теперь тоже так считает?
— Парень он у меня хороший, я тебе скажу, его на мякине не проведешь, шалишь, брат. Наше дело — деньги зарабатывать, и ничего, дела идут помаленьку. Главное не скулить!
— Ну что ж, Фриц, будем здоровы! За твою удачу!
— Мне, брат, не до марксизма. А вот отпустят ли товар в кредит, дадут ли денег, на какой срок и сколько, это, знаешь ли, мне важнее. На этом свет стоит.
— Тебе-то жаловаться не на что.
Хозяин еще долго рассуждал. Франц и столяр слушали, потом столяра вдруг прорвало:
— Я тоже в марксизме ничего не смыслю, но знай, Фриц, это совсем не так просто. Ишь ты, как по полочкам все разложил в своей башке. Что мне марксизм, или русские, или Вилли со своим Штирнером. Я без них знаю, чего мне не хватает. Когда тебе по шее надают, сразу поймешь что к чему. Вот, к примеру, сегодня я на работе, а завтра мне дадут расчет. Скажут — нет работы, и все тут. А мастер-то останется и директор тоже, и на улицу выкинут меня одного. А дома у меня трое девчонок — учатся в начальной школе, у старшей кривые ноги от рахита. Ее бы отправить на лечение, да где уж там! Одна надежда, что когда-нибудь школа поможет. Жена могла бы, конечно, похлопотать в попечительстве или еще где, но ведь у нее и без того забот много, а сейчас она и сама больна. Вообще-то она у меня молодец на все руки, и еще заработать старается — копчушками торгует с лотка. Да! А подрастут девчонки, что будут делать? Многому их в школе-то научат, как ты думаешь? То-то! Вон богатые своих детей иностранным языкам обучают, а летом везут на курорты. Думаешь, мне бы этого не хотелось? Куда там! За город с детишками съездить и то денег нет! У богатых дети рахитом не болеют, и ножки у них ровные. Или вот, скажем, у меня ревматизм — иду к врачу, в приемной человек тридцать. Сидишь-сидишь целый день, а потом врач и говорит:
"Ревматизм у вас застарелый, хронический — чего это вы вдруг пришли? Сколько лет вы уже работаете? Покажите-ка ваши бумаги". Не верит, что я болен — и все тут, а потом идешь к врачу при больничной кассе, и снова та же история. Или, опять же, взять страхкассу: из каждой получки вычитают, а поди добейся, чтобы они тебя на лечение послали. Пошлют они, как же! Разве что за день до смерти! Эх, Фриц, все это я и без очков вижу. Надо быть ослом, чтобы не видеть, что творится вокруг. Нынче это всякому и без Маркса ясно. Что верно, то верно, Фриц, крыть нечем!
Поднял столяр седую голову и в упор посмотрел на хозяина. Потом снова сунул трубку в рот — попыхивает и ждет, что тот ответит. Хозяину, видно, это не очень понравилось, сложил он губы трубочкой и пробурчал:
— Это ты, брат, прав. У моей младшей тоже кривые ноги, и у меня тоже нет денег ее в деревню отправить. Но в конце концов на земле всегда были богатые и бедные — тут уж мы с тобой ничего поделать не можем.
— Так-то оно так, — откликнулся столяр, равнодушно попыхивая трубкой. — Только вот бедным быть кому охота? Не знаю, как тебе, а мне что-то не хочется! Надоело!
Говорили они спокойно, не горячась, прихлебывая пиво. А Франц сидел, слушал и думал свое… От стойки подошел Вилли. Не выдержал тут Франц, встал, взялся за шляпу…
— Нет, Вилли, сегодня я хочу пораньше лечь. Голова трещит после вчерашнего.
* * *
Франц шагает один по пыльной улице. Жарко. Душно. Румм ди бум ди думмель ди дей. Румм ди бум ди думмель ди дей. Погоди-ка, друг, до лета, скоро черт тебя возьмет и изрубит на котлеты, в мясорубке проверь нет, погоди, мой друг, до лета, скоро черт тебя возьмет… Дьявольщина! Куда это я иду? Куда я иду, спрашивается? Остановился Франц, хотел было через улицу перейти, видит — там пути нет, повернулся он и назад по пыльной улице, прошел мимо пивной, где хозяин со столяром все еще сидели за пивом. Нет, в эту пивную я больше не пойду. Правду столяр сказал. Все так оно и есть. И политика мне ни к чему. Что в ней проку! Все равно мне никакая политика не поможет".
И Франц шагает дальше по душным, пыльным, шумным улицам. Август. Народу на Розенталерплац — не протолкнешься, вот стоит человек, продает "Берлинер арбайтер цейтунг" [11], Ну что там: "Марксистское тайное судилище". "Чешский еврей — растлитель малолетних", растлил двадцать мальчиков и до сих пор на свободе. Знаем, сами торговали! Ну и жара сегодня! Франц остановился, купил у инвалида газету со свастикой в заголовке. Э, да ведь это старый знакомый — одноглазый инвалид из "Нейе вельт".
Пей, братец мой, пей, дома заботы оставь, горе забудь и тоску ты рассей — станет вся жизнь веселей.
Пересек он площадь и пошел по Эльзассерштрассе. Вспомнились шнурки для ботинок, Людерс… горе забудь и тоску ты рассей — станет вся жизнь веселей… Давно это было, в декабре прошлого года, ух как давно, а вот тут у витрины Фабиша торговал я какой-то дрянью, что это такое было, держатели для галстуков, что ли? С Линой я тогда жил, да, полька Лина, — толстуха, приходила сюда за мною….
И Франц, сам не зная почему, повернул вдруг и прошел на Розенталерплац, к трамвайной остановке, против ресторана Ашингера. Ждет. И вдруг понял, куда его тянет. Он стоит и ждет, и все помыслы его, как магнитная стрелка, обращены к северу — к Тегелю, к тюрьме, к тюремной ограде! Вот куда ему надо!
Подошел трамвай № 41. Франц вошел в вагон. Чувствует — правильно сделал, как надо! Трамвай тронулся. В Тегель! Заплатил двадцать пфеннигов, взял билет — едет в Тегель, все идет как по маслу! И на душе легко стало. Да, да, в Тегель еду. Дорога знакомая — Брунненштрассе, Уферштрассе, Рейникендорф, все стоит на своем месте. Правильно, все в порядке! Сидит Франц, смотрит в окно, и все кругом словно на свет нарождается, растет, крепнет, наливается грозной силой. Блаженство охватывает Франца, так хорошо ему стало вдруг и спокойно, что закрыл он глаза и погрузился в крепкий сон.
Стемнело. Трамвай миновал ратушу. Берлинерштрассе, Рейникендорф-Вест, а вот и Тегель — конечная остановка. Кондуктор разбудил Франца, помог ему подняться.
— Вагон дальше не пойдет. Вам куда надо?
— В Тегель.
— Выходите, приехали.
Франц, покачиваясь, вышел из вагона.
Ишь нализался. Такие уж они, инвалиды — как получит пенсию, сразу и пропьет.
А Франца сон одолевает. Еле через площадь перешел, — доплелся до первой скамейки под фонарем, плюхнулся на нее и снова заснул. Около трех часов ночи растолкали его полицейские. Придираться к нему не стали, человек, видно, порядочный, не бродяга, просто хватил лишнего; надо домой его доставить, а то обдерут как липку.
— Здесь спать не положено! Где вы живете? Пришел Франц немного в себя. Зевает. Поскорей бы баиньки. Да, это же Тегель! А что мне здесь нужно, для чего-то ведь я сюда приехал? Мысли его путаются, скорей бы в постель. Печально и сонно оглянулся по сторонам: да, это Тегель, тут я когда-то сидел, ну, а дальше что? Такси! Эй, такси! Зачем же я приехал сюда? Вот наваждение! Послушай, водитель, разбуди меня, друг, если я засну!