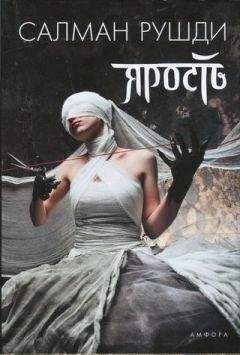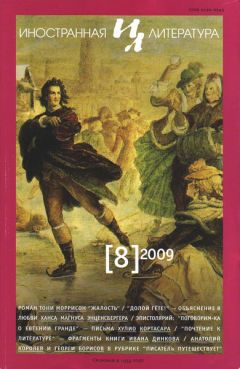По крайней мере раз в неделю Денвер заходила к Леди Джонс, которая настолько вдохновилась, что стала печь специально для нее большую булку с изюмом по собственному рецепту, поскольку Денвер, как ей показалось, была просто помешана на сладком. Леди Джонс подарила ей книжку псалмов и слушала, как та бормочет стихи себе под нос или громко выкрикивает их К июню Денвер выучила наизусть все пятьдесят две страницы – по одной на каждую неделю года.
Итак, жизнь Денвер вне дома шла совсем неплохо, но вот дома ей становилось все хуже и хуже. Если бы белые жители Цинциннати допускали негров в свою лечебницу для душевнобольных, то пациенты для нее вполне нашлись бы в доме номер 124. Обретя силы благодаря приносимым в дар продуктам – откуда взялись эти дары, ни Сэти, ни Возлюбленная даже не спрашивали, – обе женщины точно получили долгожданную передышку перед днем Страшного суда, от дьявола, должно быть, получили. Возлюбленная бездельничала, ела, валялась то на одной постели, то на другой. Иногда она вскрикивала: «Дождь! Дождь!» – и царапала себе горло, пока капельки ярко– красной крови не проступали на коже, темной, как полночное небо. Тогда Сэти кричала «нет!» и, сшибая стулья, бросалась к ней, чтобы поскорее стереть с ее горла эти крохотные сверкающие рубины. Порой Возлюбленная просто сворачивалась клубком на полу, зажав руки между коленями, и в таком положении оставалась часами. Или отправлялась к ручью, опускала ступни в воду и с громким плеском болтала ногами, забрызгивая подол. А после шла к Сэти, ощупывала пальцами ее зубы, а с пушистых ресниц и из огромных черных глаз катились слезы. В такие минуты Денвер казалось, что неизбежное свершилось: Возлюбленная, склонившаяся над Сэти, выглядела матерью, а Сэти – ребенком, у которого режутся зубы; когда же Возлюбленная в ней не нуждалась, Сэти покорно сидела на стуле в уголке. Чем больше и толще становилась Возлюбленная, тем худее и меньше – Сэти; чем ярче сверкали огромные глаза Возлюбленной, тем чаще глаза Сэти, те глаза, которые она прежде никогда не отводила в сторону, казались тусклыми щелками, опухшими от постоянной бессонницы. Сэти уже не расчесывала и не взбивала свои пышные волосы и не плескала себе в лицо водой, умываясь. Сидела в кресле, облизывая губы, точно наказанный ребенок, а Возлюбленная тем временем пожирала ее жизнь, хватала кусок за куском, пухла от обжорства, становилась все толще и выше. И старшая безропотно уступала младшей.
Денвер ухаживала за обеими. Мыла, готовила, порой обманом заставляла мать хоть немножко поесть, добывала сладости для Возлюбленной, чтобы доставить той радость и успокоить ее, потому что невозможно было предположить, что она способна выкинуть в следующую минуту. Когда наступила жара, Возлюбленная вполне могла, например, ходить по всему дому совершенно голой или слегка завернувшись в простыню; живот ее победно торчал, как перезрелая дыня.
Денвер казалось, она понимает, чем вызвана эта болезненная связь между Сэти и Возлюбленной: Сэти пыталась как-то загладить свое преступление, а Возлюбленная постоянно заставляла ее расплачиваться. Но ведь этому не будет конца! Видя, как худеет и усыхает мать, как она унижена, Денвер испытывала одновременно и стыд, и злость. И все-таки она понимала: больше всего Сэти боится того же, чего прежде боялась сама Денвер, – что Возлюбленная может уйти. Прежде чем Сэти сумеет объяснить Возлюбленной, чего все это ей стоило – провести пилой по крохотному горлышку и чувствовать, как кровь ребенка маслянистым ручьем заливает ей руки, а потом придерживать эту головку лицом вверх, чтобы не отвалилась, сжимать дочку в объятиях, принимая в себя, впитывая те предсмертные судороги, что пробегали по ее тельцу, такому пухленькому и совсем недавно полному жизни, – прежде чем она успеет объяснить ей все это, Возлюбленная может уйти. Уйти до того, как Сэти сумеет внушить ей, что хуже смерти – куда хуже – было то, отчего умерла Бэби Сагз; то, что знала Элла; то, что видел Штамп, и то, отчего Поля Ди била неудержимая дрожь. Что любой белый может забрать тебя целиком, всего, вместе с душой, если ему это придет в голову. Не только вынудит тебя работать на него, убьет или изуродует, но замарает тебе душу. Замарает так, что ты сам себе станешь противен; забудешь, кем был прежде, и даже вспомнить не сможешь. И хотя она, Сэти, и многие другие пережили такое и справились, она никогда не позволит, чтобы это случилось с ее детьми. Самое лучшее, что есть у нее, – это ее дети. Ладно, пусть даже белые испачкают ее тело и душу; но им не добраться до самого лучшего в ней, самого сокровенного и волшебного – до той части ее существа, что всегда была чиста. И не будет невообразимых снов о том, кто же висел на дереве – без головы и без ног – с нарисованным на груди знаком, – муж ли ее или Поль Эй; и о том, не окажутся ли ее дочери среди сгоревших заживо девушек в школе для цветных, подожженной бандой патриотов; и о том, не станет ли толпа белых мерзавцев своими грязными лапами касаться обнаженного тела ее девочки, насиловать ее, пачкать ее бедра своей спермой, а потом выбросит ее из повозки на полном ходу. Это она, Сэти, могла бы работать на бойне по субботам, но только не ее дочь.
И никто, ни один человек на земле никогда не станет перечислять свойства ее дочери на той стороне листа, где записывают свойства животных. Нет. О нет! Может, Бэби Сагз могла бы вынести эту муку; Сэти и тогда отказалась так жить – и отказывается поныне.
Это и еще многое другое слышала Денвер от матери, когда та сидела в углу, пытаясь убедить Возлюбленную в правильности своего выбора, – убедить того единственного человека, перед которым чувствовала себя обязанной оправдываться, доказывать, что все сделала правильно, потому что руководила ею истинная любовь.
Возлюбленная, упершись своими полными гладкими ступнями в сиденье поставленного напротив стула и спокойно сложив свои младенчески гладкие руки на животе, смотрела на Сэти. Не понимая и не воспринимая ничего, только одно: Сэти была той женщиной, что отобрала у нее лицо, бросила ее в каком-то темном-претемном месте и забыла ей улыбнуться.
В конце концов, будучи дочерью своего отца, Денвер решила действовать. И перестать полагаться на доброту тех, кто оставлял им еду на пне. Она собралась непременно найти какую-нибудь работу, хоть и боялась покидать Сэти и Возлюбленную на целый день, не зная, что еще может выкинуть та или другая, но наконец поняла, что ее присутствие в доме для обеих, в общем-то, не имеет значения. Она поддерживала в них жизнь, но они не обращали на нее ни малейшего внимания. Ворчали друг на друга, дулись, выясняли отношения, что-то друг у друга требовали и ходили с важным видом; дрожали от страха или от холода, плакали, доводили друг друга до истерики, до бешенства, а подчас и переступали эту грань. Денвер стала замечать, что если Возлюбленная была спокойной и сонно-мечтательной, думая о чем-то своем, то первой тогда начинала Сэти. Она что-то шептала, бормотала какие-то оправдания, что-то рассказывала Возлюбленной, пытаясь объяснить, как все это было на самом деле и почему так произошло. Похоже, Сэти никакого прощения вовсе не требовалось; наоборот, ей хотелось, чтобы в прощении ей отказали. И Возлюбленная с удовольствием оправдывала это ее тайное желание.
Кого-то из них нужно было спасать, но если Денвер не найдет работу, то спасать будет некого. И не к кому будет возвращаться домой. И самой Денвер тоже тогда не будет. Это была новая мысль, призывающая Денвер обратить внимание и на себя тоже, постараться как-то уберечь себя и выжить. Мысль эта не появилась бы у нее, не повстречай она Нельсона Лорда – тот выходил из дома своей бабушки, когда Денвер туда входила, чтобы поблагодарить за принесенные полпирога. Он только улыбнулся и сказал: «Подумай о себе самой, Денвер, пожалуйста», но ей показалось, что ради этих слов и был создан человеческий язык В первый раз, давно, когда он разговаривал с ней, его вопросы намертво закрыли ей уши. Теперь же его слова открыли ей разум. Пропалывая грядки в огороде, выдергивая из земли овощи, готовя еду, моя посуду, Денвер обдумывала, что и как ей делать. Больше всего надежды было на Бодуинов, ведь они уже дважды им помогли. В первый раз – Бэби Сагз, во второй – матери Денвер. Может быть, они помогут и ей, представительнице третьего поколения этой семьи?
Она долго блуждала по улицам Цинциннати и добралась до цели только после полудня, хотя вышла с рассветом. Дом стоял довольно далеко от тротуара, большие окна смотрели через сад на шумную деловую улицу. Негритянка, открывшая парадную дверь, спросила:
– Тебе чего?
– Можно мне войти?
– Зачем?
– Я хочу видеть мистера и миссис Бодуин.
– Мисс Бодуин. Они брат и сестра.
– Ой, простите!
– Зачем они тебе понадобились?
– Я ищу работу. Я думала, может, они что-нибудь мне подскажут.