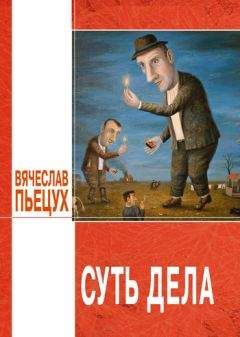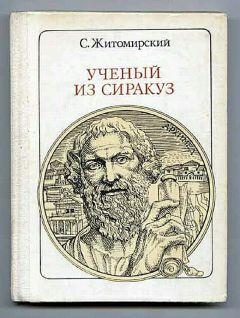Сосед мой, по художественному прямо-таки стечению обстоятельств, – заурядный шпик из госбезопасности, пастух, топтун, гороховое пальто. Он говорит «согласно закона» и «прецендент», слегка пришепетывает, иногда смотрит так, точно ему известно имя-отчество моей бабушки, но, с другой стороны, в нем симпатично то, что он обожает Владимира Высоцкого, которого ему приказали пасти еще в середине шестидесятых и которого он пас в течение всей своей богопротивной карьеры вплоть до смерти великого барда в июле восьмидесятого, что он знает абсолютно все его песни и умеет их петь с той же самой трогательной хрипотцой; так как мой сосед уже несколько лет на пенсии, он своей бывшей профессии не таит.
– Ну и какой он был из себя? – как-то спросил я о Высоцком своего неправедного соседа.
Он в ответ:
– Да маленький, худенький, кажется, в чем душа держится, а голос, как у слона!..
– А крепко он керосинил?
– Что ты! Я даже, блин, один раз лично притаскивал его домой на своем горбу!
– Не понимаю: и откуда только берется у людей такое неистовое здоровье?! В смысле, откуда у людей берется такое неистовое здоровье, что его хватает на двадцать лет самоуничтожения?..
– А я почем знаю!
– Хотя пожил парень – дай бог каждому так пожить.
– Это точно, полностью взял свое Владимир Семенович, сокол ясный! Можно сказать, раскрутился на всю катушку: в мерседесах ездил, два раза от алкоголизма лечился, каждая собака его знала, на француженке был женат!..
– Как это все же несправедливо: для одного жизнь – срок усиленного режима, для другого – профсоюзное собрание, для третьего – карнавал… Только я все равно не могу понять: откуда у людей берется такое неистовое здоровье, что его хватает на двадцать лет самоуничтожения?..
Я потому зациклился в этом пункте, что сроду не пил, не курил, не ездил на мерседесах, а между тем заработал ожирение печени и, видимо, скоро отдам концы. Я, конечно, тоже пожил на своем веку, но в том-то все и дело, что основательно я пожил как-то квело, на диетический манер, что ли, без этого порыва и огонька, не претерпевал, не страждал, не противоборствовал, не побеждал и даже не знал особенных сражений. Словом, я существовал, как среди людей существует огромное большинство, единого дыхания ради, изнурительно и невнятно. И то сказать: ничего-то не выпало на мой век экстраординарного, пламенного, имеющего прямое историческое звучание, что, в общем-то, странно по русской жизни; в период коллективизации я был еще сосунок, в тридцать седьмом году не мог при всем желании пострадать, войну я провел под Ташкентом, в сытости и тепле, никак не коснулись меня лютые кампании против врачей-отравителей и безродных космополитов, при Леониде же Первом я был настолько погружен в проблемы городов будущего, что искренне считал академика Сахарова наймитом враждебных сил. То есть вроде бы я – всецело гражданин XX века, а прошел его стороной, или он сам обошел меня стороной, то ли из горней жалости, то ли по какой-то иной причине – это еще надо обмозговать. И вот что удивительнее всего: трудно было ожидать такой снисходительности со стороны такого грозного столетия по отношению к такому пустопорожнему существу. Даже никак от него снисходительности не следовало ожидать, уж больно он вышел необузданно-костоломный, и главное, неразборчивый, безоглядный, как всеобщая мобилизация, этот самый XX век. А впрочем, всего удивительней будет то, что еще позавчерашнее XVIII столетие, сравнительно милосердное к малым сим, пожалуй, дало понять: человечество окончательно вышло из стадии дикости и наконец-то ввалилось в ту благословенную пору, когда гуманистические идеалы решительно берут верх над законами волчьей стаи. О XIX столетии уж и нечего говорить: наши прадеды, кажется, только и делали, что соревновались в приятных манерах, зачитывались новинками изящной литературы, изобретали разные разности да еще и явили сразу несколько учений о Божьем царствии на земле; поди, англо-бургскую войну они считали последней в истории цивилизации, смертную казнь трактовали как вредный анахронизм, подражали литературным героям и каждый понедельник чаяли какого-то нового, чистого бытия. А изобилие товаров широкого потребления? а знаменитый убийца Пищиков, который привел в содрогание всю Россию единственно тем, что насмерть засек жену? а городовой на каждые четыреста душ обывателей, обязанный унимать всяческую уголовщину, а не подбирать на улицах трупы, чем главным образом занимается нынешняя милиция? а самый демократический в мире дворянский корпус, живое хранилище понятий о долге, чести, доблести и культуре? а смехотворные срока за покушение на государственные устои? а курс рубля? И вот, представьте себе, грянул XX век: одна мировая война, другая мировая война, средневековые пытки, кровавый террор в некогда цивилизованнейших государствах, японский апокалипсис, абсолютные монархии под видом диктатуры пролетариата, ненависть, страх и трепет. Не моего ума дело разбирать, почему человечество так резко сдало назад, однако не могу надивиться такому бесславному отступлению; зачем тогда страждала великая русская литература, зачем жертвовали собой восемнадцатилетние мальчики, воспитаннные на лирической философии Владимира Соловьева и угрюмых выкладках Карла Маркса, зачем вообще одни люди мыслили, а другие проводили идеи в жизнь, если в середине нашего века Россия взяла вдруг и превратилась в новое Вавилонское государство?.. – этого я никак не могу понять. И даже до такой степени у меня ум за разум заходит, что по ночам стали мучить увлекательные кошмары.
Положим, будто бы средь чиста поля, с трех сторон окаймленного перелесками, а с четвертой – темной рекой, почти не показывающей движения своих вод, накрыт длинный-предлинный стол, какие у нас еще накрывают по деревням на свадьбы и прочие торжества. За столом сидят званые и призванные, которым, кажется, не видно конца, как строю солдат на большом параде; иные исключительно пьют и закусывают, иные пьют и закусывают под занимательный разговор, иные шумят, иные о чем-то думают, уткнувши вилку в намеченный кусок снеди. Вообще что-то странное происходит: вроде бы это жизнь, а вроде бы и не жизнь, а чудесный сон с элементом бдения. И над всей этой тайной вечерей, что ли, раскинулось грациозное русское небо, набухшее сумерками, душистыми, как черемуха, и тревожными, как приветствие незнакомого человека…
– А помнишь, – вдруг спрашивает один мой сосед другого (первый пускай будет Иван, а другой Евлампий), – помнишь, сидел тут писатель Бабель и всю дорогу повторял: «Сталин – это не человек, он даже успевает руководить пролетарской литературой»?..
– Господи Иисусе Христе! – испуганно сказал я. – Ребята, сколько ж вы тут сидите?
– Довольно давно сидим, – последовало в ответ. – Ну так вот, славословил он Сталина, славословил и вдруг исчез! Как будто его не было никогда, так стремительно он исчез!
– И поделом! – заявил Евлампий. – Потому что высовываться не надо. Дал тебе Бог талант, ну и сочиняй литературу, а высовываться не надо.
– Совершенно с тобой согласен, – сказал Иван. – Вот я всю жизнь проработал расточником по горячему металлу, ни во что не лез, и поэтому пирую себе до упора, пока не приспеет пора… как бы это выразиться поинтеллигентнее – отходить. И заметь: исключительно своим ходом.
Евлампий добавил:
– Они, собаки, наверное, для того и выдумали активную жизненную позицию, чтобы тех, кто высовывается, – косить!
– Товарищи! – вскричал я. – Ведь это же чистой воды конфуцианство, вы что, изучали восточную философию?
Евлампий в ответ:
– Никакую философию мы не изучали, не те у нас были родители, а до всего доходили своим умом. Да и большого ума не надо, чтобы сообразить: ежели ты русской национальности, ежели ты муж, отец, расточник по горячему металлу да еще и живешь в Хорошеве-Мневниках, то за ради Христа не лезь в комсомольские вожаки.
– А ежели ты писатель, – продолжил сосед Иван, – то и пиши себе, заперевшись на три замка, а не води компанию с тузами из НКВД, потому что они стопроцентно тебя погубят.
– Приведу в пример наш Знаменский переулок, – это опять Евлампий. – Кого у нас при Сталине посадили: фотографа одного посадили за то, что он превратно снял первомайскую демонстрацию. Из этого я делаю такой вывод: правильно их сажали, не надо обслуживать проходимцев и палачей! А коли я, положим, всю жизнь трудился исключительно на благо своей семьи и плевал на ихнюю диктатуру пролетариата, то для меня что культ личности, что землетрясение в Португалии – все едино.
Я было собрался выговорить моим соседям за махровый индивидуализм и уязвить их отрывком из баллады Максима Горького, где «глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах», но тут внезапно пришел в себя. За окном по-прежнему гудел тополь, точно он жаловался на что-то ботаническое, свое, нервно тикал будильник на тумбочке у моего отставного опера, в коридоре кто-то надрывно кашлял. Я повернулся на другой бок и сказал себе внутренним голосом, в котором сквозила боль: какая это, в сущности, досадная неудача – родиться в треклятом XX веке, особенно если лучшие годы пришлись на его закат, на время застенчивой деспотии, кромешной лжи и такого упадка народных сил, что последние тридцать лет в стране вообще ничего не происходило, и даже образовалась целая эпоха отсутствия новостей… Ну что я видел, будучи ее обездоленным гражданином? Практически ничего; люди хоть низвергались в ад за то, что они превратно фотографировали первомайскую демонстрацию, а я, сколько помню себя, все будто нес какую-то тягостную общественную нагрузку.