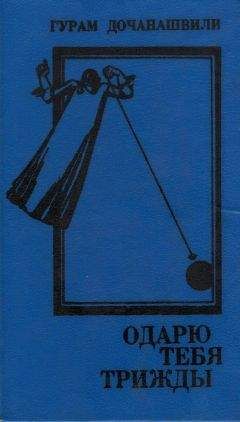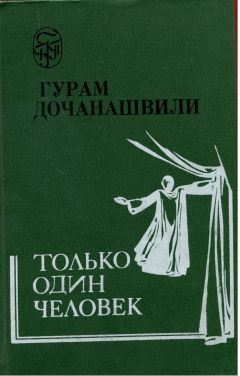— Э-эх, выы, грузиныы!!
Ошеломленные, мы застыли в оцепенении, уставив глаза на стоявшего на верхней террасе Шалву; никто уже больше не только не хохотал, но и просто не улыбался. Окаменев от растерянности, с отвисшими от недоумения челюстями, пялили мы глаза на устрашающе грозного Шалву; а Шалва вновь прогремел с небывалой силой:
— Грузииныы, стойте!!!
Но куда там нам было уйти, мы, одеревенелые, только потеснее жались друг к другу. Здесь, у этой первобытной пещеры, в зыбком, мятущемся свете факелов, нас, убоявшихся столь ярого гнева Шалвы, неудержимо потянуло друг к другу; даже двое недругов, вот уже десять лет ни разу не перекинувшиеся словом, так тесно приникли друг к другу, что — хоть это и сказка была, но все равно чудеса да и только! — превратились в одного человека...
— До смеха ли вам? — гремел Шалва. — Мы, три родные брата, и с нами еще один человек, радостно мучась и страждя, вознесли к вам сюда, в эту деревушку, итальянскую комедию дель арте, а чтоб вы полнее вкусили от ее благодати, мы даже наспех переделали ее для вас на грузинский лад, но, простите, чего мы этим добились! Вы только хихикали или ржали во весь голос; стало быть, в ней вы не увидели ничего, кроме потешной забавы, да? Э-эх, выы!
Да, сказка то была, сказка, и поднявшиеся сюда поглазеть на зрелище люди теперь поджали от страха хвост и рады были бы поскорее дать тягу, да только кто бы их отпустил, кто бы разрешил им переступить с места хоть на единый шаг, и они невольно, все более льнули друг к другу, все плотнее скучиваясь, сливались один с другим, и это тоже, наверное, было негоже — и без того малочисленные, они все убывали в числе, их уже оставалось всего несколько человек, но и те уже смыкались, сливались друг с другом.
— Кто вам может запретить улыбаться и смеяться! — от сердца вопил над этими несколькими оставшимися Шалва. — Но надо знать, когда уместно и когда неуместно смеяться. Неужели вы не почуяли той вольности и свободы, о которых каждому из вас только мечтать... Нет, односторонней воли, свободы для себя, у вас хоть отбавляй, но откуда, как?! Это можно с ума сойти!..
Осталось всего два человека, и они тоже устремились друг к другу!
— Колх-иберы! — загрохотал Шалва,— да напрягите же вы слух и глаза...
Теперь уже оставался только один человек, и такой он стоял жалкий, понурый, нахохленный, что Шалва, немного смягчившись, спрыгнул к нему на нижнюю террасу, а за ним последовали и его сотоварищи. Шалва подошел к тому самому человеку, чуть приподнял ему голову, подложил два пальца под подбородок, и что же видит: да это ведь наш Киколи...
Стоит он один-одинешенек, вокруг ни души, только галоша на земле валяется.
«Что случилось, Киколи, почему ты так пригорюнился?» — это Шалва. А тот: «Да не знаю, мол». «Нет, нет, — Шалва ему, — скажи все же, с чего это ты стоишь как в воду опущенный?» А он: «Да насмеялся я больно над комедией-то, вот с того и одолела меня печаль». «Брось, парень! — говорит ему Шалва, — чем на других смотреть, сам бы поискал выход». «Рад бы, — это Киколи, — да только как мне его сыскать». «А ты, — говорит Шалва, — не сиди сложа руки, походи, поищи, сунься туда-сюда, может, и тебе еще выпадет счастье».
Киколи уже собрался было отойти, как Шалва: погоди, дескать, маленько, и, отведя на минуту от него глаз, глянул на своих комедиантов, смерил их каждого взглядом с головы до ног, а когда вновь обернулся на Киколи, видит — что же он видит? — разлегся себе беззаботно этот наш Киколи и невесть с каких трудов отдыхает.
Разозлился Шалва, не приведи бог:
— Вставай, ты, бездельник, развалился точно колода! И с чего это тебя вдруг так развезло, небось лень-матушка заела?
— Да уж что уж, — отвечает Киколи, — такой уж я есть, лежебока, от веку.
Призадумался тут наш Шалва, крепко призадумался, ан, глядь, схватил вдруг в охапку этого нашего Гришу и, ничуть не жалеючи, бух его со всего маху на Киколи. И тю-тюу наш Гриша, только мы его и видели. А Киколи-то отряхнулся, повел вокруг вылупленными глазами, вскочил, набравшись силушки, и пустился в пляс, да в какой пляс — то завертится вьюном, то вскочит на кончики пальцев и ну семенить, ну отбивать дробь ногами, а то еще взовьется птицей в воздух, словом сказать, лучше той пляски, верно, и не видел глаз человеческий. Но ведь у Гриши и слух был отменный, так что открыл вдруг Киколи рот и завел рулады на манер наших многоголосых песен, сплетая переливисто по два, три и того более голосов зараз... Тут тебе и «Зима», «Одойя», и «Криманчули», «Старик я», «Лиле», словом, какие только хотите. Поет себе заливается наш Киколи, и откуда только взялся у него такой талант и такая волшебная глотка.
Хорошо, небось, да? — Шалва ему. Но Киколи, не в силах прервать пение, только радостно закивал в ответ головой. А Шалва ему: да будет, мол, тебе головой вертеть, и, хвать этого нашего, ну, как его там — эх, черт, запамятовал! — фамилия, что-то вроде бы на «Твиши» походила... ах, да, да, хвать он, значит, этого нашего Гайоза Джаши и, шарахнув во всю мочь, приклеил его к Киколи: тот мигом смолк, сомкнул губы и, скосив глаза, уставился куда-то вдаль, будто мучительно чего-то ожидая.
— Давай, давай! — говорит ему Шалва.
— Сказка то была, сказка была, — печально начал Киколи, — околела в лесу птаха, тесно ей было в большом котле, а в маленьком хорошо, привольно...
— Так это же про тебя, слышь ты, — говорит ему Шалва.
Но Киколи его и не слушает:
— Скажу я тебе один стих, проклятая твоя душа, а то, кажись, помирать мне пришла пора. Скажу, а?
— Давай.
И Киколи начал:
— Цвета сумерек деревня, а сумерки все густеют и густеют... — Ссутулил плечи, нейдут дальше слова...
А Шалва:
— Сказал бы ты, брат, что повеселее.
— Правда? — обрадовался Киколи, скажу, отчего б не сказать...
Ты моя великая надежда,
Башня, сложенная из камня;
Вы мои коса и серп,
Поющие с раннего утра,
В лесу срезанная стрела (мы),
В городе крашенная хной.
Голубая рубашка из мови (ткань).
В семи местах застегнута на пуговках.
Родник бессмертия (мы),
Текущий по золотой трубе,
Насытиться бы находясь рядом с вами,
Трезвостью и сном...
Распрямился, приосанился Кикол, во всю ширь развернул плечи, глянул на свои руки и говорит:
— Я и храм сложить умею, и стены его могу разрисовать. Хочешь, покажу?
— Верю, Киколи.
Наплывают слова на этого нашего Киколи, хочет, силится он еще и еще что-то сказать... Однажды царский сын изволил отправиться на охоту, заехал в дремучий лес, видит — стоит прекрасный-распрекрасный дворец, а в пышных покоях того дворца — невиданная под солнцем красавица; и запала ему девушка с первого взгляда в душу. Глядел он, глядел на нее издали, и не стало у него больше мочи, пришпорил он своего крылатого коня и подъехал поближе. Еще краше показалась вблизи ему девушка, совсем обуяла его любовь, спрыгнул он с коня... А где-то горько плакала осиротевшая мать: как ехали они к царю, предала ее сестра — глянь, говорит, какое наливное яблочко, прямо на тебя смотрит, полезай на дерево, сорви, я тебе спину подставлю... Возьми да отдай сестре на руки сиротинушка своего ребенка; та подставила ей спину, и взобралась злосчастная мать на дерево. И не бросили ее тут одну? Нет и нет, не может она спуститься на землю... Разрыдалась, расплакалась она горькими слезами, и уж столько стенала, столько плакала, инда истекла вся слезами и кровью на землю. А в том месте, куда пали ее кровь и слезы, поднялся высокой стеною тростник. Зашумели-зашелестели травы, распустились тысячи всяких цветов. Тяжко призадумался наш Киколи, трудно ему собраться с мыслями, столько их теснится в голове... Но все-таки снова заговорил:
— Ходит-бродит, обливаясь слезами, несчастная мать:
— Встретился в пути моему сыну разъяренный тигр.
Душат Киколи слезы, никак не складываются у него слова, только и бормочет он отрывочно: тигр оказался не из трусливых, но и не на робкого он напал... Ты не умер, сынок, ты спишь, утомленный трудами... Все ж таки вырастила я сына, отважившегося сразиться с тигром... А другой раз ей думалось: ведь ни одно дитя на свете не выросло без матери, может, и тигрица плачет, подобно мне, по сыну днями и ночами...
Примолк Киколи, льются и льются из глаз его слезы. Да и Шалве не лучше, у него аж волосы на голове шевелятся:
— Но тебе надобно знать и другое!
— Что... — вздрогнул Киколи.
— А вот это! — Шалва обхватил Василия руками, да как швырнет и его тоже.
Киколи прокашлялся:
— Не возможно, а несомненно Сервантес и Толстой, дорогие мои, более великие писатели, но Флобер — единственный человек, написавший два поистине великих, — без сучка и задоринки, — романа: один из них — о своих современниках; действие же второго он развернул в Карфагене. Нет, все же что это за божья милость, люди добрые, — впал в экстаз Киколи, — что раз и навсегда родились Данте, Стендаль, Мериме, Пушкин, Фолкнер...