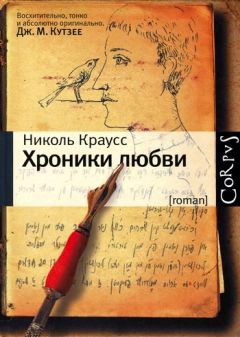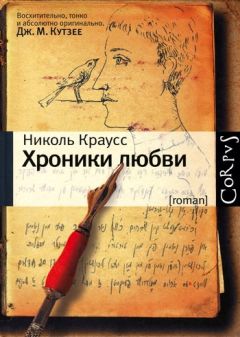Я вглядывался в черты моего гостя. Нет, я ошибся. Это не он. Уж не знаю, как я это понял, но посмотрел в лицо — и понял. И, к своему удивлению, ощутил горечь разочарования. Нам бы нашлось, что сказать друг другу. Очень, очень много.
И какое же потрясение они испытывают, продолжал Вайс, когда я наконец добываю вожделенный предмет, вещь, о которой они мечтали полжизни, в которой воплощена вся их неизбывная тоска по утраченному. Это настоящий шок. Все их воспоминания строились вокруг пустоты, и вдруг эта пустота заполнилась, недостающая вещь обретена. Им сложно в это поверить, словно я раздобыл золото и серебро, которое утащили римляне, разрушив Храм две тысячи лет назад. Ведь все, награбленное войсками Тита, все эти священные предметы загадочно исчезли, довершив и без того катастрофическую для евреев утрату. Она стала полной, безграничной, ничто уже не мешало еврею превратить Храм в вечную тоску и унести ее с собой в любые скитания, чтобы тосковать везде и всегда.
Мы посидели молча. А это окно? — произнес он наконец, пристально глядя мне за спину. Как оно разбилось? Я удивился. Откуда вы знаете? Я вдруг подумал, что в моем госте есть двойное дно, что-то зловещее, а я пропустил, не учуял. Стекло новое, ответил он, и конопатили недавно. Кто-то с улицы бросил камень. Жесткие черты Вайса смягчились, он задумался, словно мои слова пробудили в нем какие-то воспоминания. Потом он снова заговорил.
Но, понимаете… письменный стол — это… это не мебель, совсем не мебель. Разумеется, и с другими предметами случались проколы — не удавалось найти точно такой сундук или стул, по которому ностальгировали мои клиенты. Поиск заходил в тупик. Или кончался, вообще не начавшись. Вещи не вечны. Для одного эта кровать — место, где воспарила его душа, а для другого — просто кровать. И когда она ломается или выходит из моды или больше ему не нужна, он ее выбрасывает. Зато тот, чья душа воспарила на этой кровати, жаждет полежать на ней еще раз, перед смертью. Он приходит ко мне. У него такой взгляд, что я сразу все понимаю. И даже если этого предмета больше не существует, я его нахожу. Понимаете, о чем я? Я вынимаю его из рукава, как фокусник. И если эта кровать сделана из чуть иной древесины, если ножки у нее слишком толстые или слишком тонкие, человек заметит разницу лишь на миг. Он потрясен, он не верит своим глазам, но вот та кровать, что стоит сейчас перед ним, вторгается в его память и замещает прежнюю. Потому что ему нужна не правда, ему нужно, чтобы это оказалась именно та кровать, где они спали когда-то вместе. Понимаете? И если вы, мистер Бендер, спросите, есть ли за мной вина, есть ли за мной обман, я отвечу — нет. Потому что в тот момент, когда человек протягивает руку и гладит изголовье, никаких других кроватей на этом свете уже не существует.
Вайс провел рукой по лбу, потер висок. Выглядел он очень уставшим, хотя взгляд его остроты не утратил.
Но тот, кто разыскивает этот стол, не похож на других, произнес он. Этот человек не способен забыть, он ничего не забывает. Его память не поведется на подмену. Чем больше проходит времени, тем острее становится его память. Он и сейчас может разглядеть ворсинки на ковре, где сидел в детстве. Он может выдвинуть ящик стола, который не видел с тысяча девятьсот сорок четвертого года, и вещь за вещью перебрать его содержимое. Для него воспоминания реальнее, чем та, все более туманная жизнь, которую он проживает сейчас.
Вы даже не представляете, как он преследует меня, мистер Бендер. Звонит и звонит. Мучает меня. Ради него я таскаюсь из города в город, навожу справки, обзваниваю людей, стучу в двери, исследую каждый мыслимый и немыслимый источник. Но пока я ничего не нашел. Огромный стол, втрое больше любого другого, попросту исчез, как многое в этом мире. Но он об этом и знать не желает. Сначала он звонил мне несколько раз в год. Теперь реже, раз в год, всегда в один и тот же день. И вопрос всегда одинаковый: ну? Есть что-нибудь? И уже много лет я вынужден отвечать: нет. Ничего нет. Однажды он не позвонил. И я решил, не без облегчения, что он, наверно, умер. Но тут по почте пришло письмо, написанное в день, когда он всегда звонил. Своего рода годовщина. И я понял, что он не умрет, пока я не найду стол. Он хотел бы умереть, но не может. Я испугался. Я хотел с этим покончить. По какому праву он требует с меня стол? Почему я должен нести ответственность за его жизнь, в случае если я не найду стол, и за его смерть, если найду?
И все же я не могу о нем забыть, сказал Вайс, понизив голос. Я снова начал искать. И однажды, совсем недавно, получил подсказку. Как крошечный воздушный пузырик, что поднимается из океанских глубин и указывает ученым, что там, внизу, кто-то дышит. Один такой пузырик привел меня к другому. Потом еще к одному. Я напал на след! Я шел по нему много месяцев. И наконец он привел меня сюда, к вам.
Вайс смотрел на меня. Он ждал. Я заерзал. Да, его ждет печальная весть, ведь стола, который мучил нас обоих, он здесь не найдет. Мистер Бендер, начал Вайс, но я его прервал. Стол принадлежал моей жене, сказал я отчего-то шепотом. Только его здесь давно нет. Уже двадцать восемь лет.
Рот его скривился, все лицо на миг сжалось в судороге, а потом горестно обмякло, утратило всякое выражение. Мы оба молчали. Где-то далеко ударили церковные колокола.
Когда мы познакомились, тихо произнес я, она жила одна, с этим столом. Он возвышался, нависал над ней, занимал полкомнаты. Вайс кивнул, а его темные глаза заблестели, загорелись, словно он тоже, вместе со мной, представил себе стол Лотте. А я — словно выводил черной ручкой простые линии — медленно описывал огромный стол и крошечную комнату, которая была его вотчиной. И тут… Внутри меня, на самом дальнем краю сознания затрепетало нечто — оно всегда было там, но очнулось благодаря присутствию Вайса. Этот стол высасывал весь воздух из помещения, прошептал я, пытаясь нащупать замерцавшую вдали истину. Мы жили в его тени. Казалось, Лотте дана мне взаймы, тьма выпустила ее ко мне на время, но останется ее хозяйкой навсегда. Казалось… Вспышка жарко опалила меня, погасла, и мне явилась холодная ясная правда. Сама смерть жила с нами в этой крошечной комнате, прошептал я. Она угрожала нам ежеминутно. Она вторгалась в каждый угол и оставляла нам так мало места для жизни.
Рассказывал я долго. А он слушал, словно старался запомнить каждое слово, и живой интерес в его взгляде сменялся болью, этот взгляд вел, толкал меня вперед, пока я наконец не добрался до истории Даниэля Барски, юноши, который позвонил однажды вечером к нам в дверь, который недолго, но так сильно мучил мое воображение, а потом исчез — так же внезапно, как появился, — забрав ужасный всевластный стол с собой. Я смолк, Вайс тоже молчал. Вдруг я припомнил что-то еще. Минутку, сказал я, и сходил в другую комнату, где извлек из ящика своего стола маленький черный дневник, исписанный бисерным почерком молодого чилийского поэта. Я хранил дневник почти тридцать лет. Когда я возвратился в гостиную, Вайс рассеянно смотрел в окно, которое заменил стекольщик. Потом он повернулся ко мне. Мистер Бендер, вы слышали, был такой еврейский праведник в первом веке нашей эры, рабби Йоханан бен Заккай? Имя слышал, но ничего о нем не знаю, ответил я. А почему вы спрашиваете?
Мой отец был ученым, изучал еврейскую историю, сказал Вайс. Он написал много книг, я прочитал их все спустя много лет после его смерти. И опознал в них легенды, притчи, которые он рассказывал мне в детстве. Одна из самых любимых его историй — как раз про бен Заккая, который был уже стариком, когда римляне подступили к стенам Иерусалима. Ему надоели распри в осажденном городе, и он инсценировал собственную смерть, сказал Вайс. Могильщики вынесли его из города и доставили к шатру римского генерала. Там он ожил, напророчил римлянам победу, и в награду за доброе предсказание ему разрешили уйти в город Явне и открыть там религиозную школу. Он обосновался в этом маленьком городке и спустя какое-то время узнал, что Иерусалим сожжен, Храм разрушен, а всех, кто выжил, изгнали из города. Бен Заккай мучительно размышлял: какой же еврей сможет жить без Иерусалима? Как остаться евреем без родины? Как приносить жертву Богу, если не знаешь, где его искать? В скорби своей он разорвал на себе одежды и, возвратившись в Школу, объявил, что сгоревший в Иерусалиме суд будет возрожден здесь, в сонном городке Явне. А вместо того, чтобы приносить Богу жертвы, евреи должны просто ему молиться. Еще он велел ученикам записать еврейский Закон, который до этого передавался из уст в уста более тысячи лет.
Днем и ночью они корпели над Талмудом, продолжал Вайс. Это занятие так поглощало учеников, что временами они забывали вопрос, который задал их учитель: какой же еврей может жить без Иерусалима? Только позже, после смерти бен Заккая, ответ открылся, явил себя сам, постепенно, точно огромная фреска, которая обретает смысл, только когда, пятясь, отходишь подальше от стены: превратите Иерусалим в идею. Превратите Храм в Книгу, столь же обширную, священную и запутанную, как сам город. Соберите, сплотите людей вокруг Школы и Книги, в которых отразится все, что они утратили. Школа бен Заккая называлась Большой дом, по названию, упомянутому в Книге Царей: И сжег он дом Господень, и дом царя, и все дома в Иерусалиме; и все дома большие сожег он огнем.