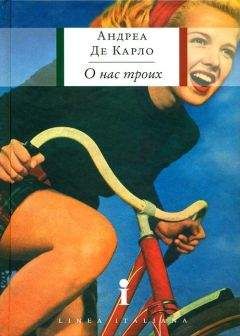Я наблюдал за ним, пока как-бы-мой галерист преображался в моего настоящего галериста, поражаясь тому, насколько Томас устроен иначе, чем мы с Марко, а еще больше — тому, что вопреки этому или как раз поэтому его союз с Мизией оказался настолько удачным. Почему, в очередной раз задумался я, очень схожие между собой люди зачастую просто калечат друг друга, а жизнь с человеком из другого теста, наоборот, идет на пользу, и как понять, закономерность тут или случайность. Думал я и о том, строятся ли и наши с Паолой отношения на принципе единства противоположностей, а если да, то как это на нас отражается.
Паола и Мизия все время посматривали друг на друга, а то и шушукались, посмеивались, что-то друг у друга спрашивали, обменивались комплиментами. Мне это было приятно, и вместе с тем я чувствовал себя словно лишним, совсем как на дне рожденья виновник торжества среди многочисленных гостей.
Они в очередной раз шушукались, и вдруг Паола словно подпрыгнула на стуле: «Да что ты?!»
У Мизии было странное выражение лица, она взглянула на мужа с заговорщицким видом.
— Ты чего, мышонок? — спросил Томас: его ровный тон человека, говорящего на неродном языке, окрасился нежностью.
Я даже представить себе не мог, что Мизию кто-то может называть «мышонком», но, похоже, в новой своей жизни она ничего не имела против и, казалось, нуждалась лишь в одном: быть легкомысленной и ребячливой, чего раньше не могла себе позволить.
— Ничего, просто я тоже жду ребенка, — сказала она и коснулась рукой живота. Вообще-то ничего еще не было видно, но мне тут же показалось, что беременность влияет и на ее вид, и на настроение.
За столом раздались радостные восклицания и замечания, мой теперь уже настоящий галерист заказал какое-то особое вино, чтобы отметить эту новость с двойным или даже тройным размахом. Я тоже говорил громче обычного и бурно жестикулировал, слегка опьяневший и ошеломленный всем, что на меня обрушилось; и все равно у меня было неприятное чувство, что я заторможен и вообще от природы чрезмерно зажат. Но с Мизией так было всегда, и мне казалось, что с этим ничего не поделаешь.
Я как-то уж совсем шутливо поболтал с ней о том, о сем, чтобы не чувствовать, будто не успеваю за ходом событий, и отогнать все еще живые воспоминания о нашей общей жизни в Париже. Мизия об этой нашей жизни говорила так, словно не верила, что все это происходило с ней.
— Господи, я же тогда совсем съехала с катушек. Бедный Ливио, какой, наверно, это был кошмар.
— Забудь, — отвечал я, вспоминая, как сам тогда чуть не рехнулся.
— Ты так замечательно возился с маленьким Ливио, — продолжала Мизия. — Не знаю, что бы я без тебя делала.
— Да ладно тебе, — отвечал я, а сам тосковал по маленькому Ливио, по тому закончившемуся раз и навсегда периоду нашей жизни. Я изо всех сил пытался отогнать от себя воспоминания о Марко: вот Марко смотрит на спящего сына, вот Марко на кухне, бледный как полотно, слушает Мизию, Марко уже в дверях с дорожной сумкой на плече, сломленный отчаянием. Я старался думать о чем-нибудь другом, мысленно отгородиться от этих картин, но они так настойчиво преследовали меня, что я забеспокоился, как бы Мизия не догадалась о моих мыслях.
— Я думала, мне не выкарабкаться, — призналась Мизия, говоря словно о далеком прошлом. — Жила, словно на дне закупоренной бутылки. Как дрессированная мышка в стеклянном ящике — видал, как они бегают туда-сюда, беленькие и серенькие, крутятся на одном месте все быстрей и быстрей, а убежать-то не могут?
— Как же ты смогла? — спросил я, стараясь говорить ровным голосом.
— Том помог, — сказала Мизия. — Сама бы я не справилась. Так бы и вертелась юлой на одном месте или умерла бы.
Я смотрел на бабушку, ее подругу, маму с ее мужем, моего галериста и его друзей-клиентов — семейную пару, и думал: могли бы они себе представить, что потрясающая женщина слева от меня когда-то сидела на наркотиках и довела себя до чудовищного состояния, до полного отчаяния. Интересно, узнай они правду, как бы отреагировали и что бы изменилось в их картине мира?
— Тому тоже нелегко пришлось, а ведь он не из тех, кто пасует перед трудностями, — продолжала Мизия. — Но он нашел клинику, у которой своя методика, правда действенная, эта клиника одна такая во Франции; а еще договорился с одной замечательной девушкой, канадкой, и та взяла к себе маленького Ливио. Сам он не ходил на работу две недели и помогал мне, когда началась ломка.
Пока она все это рассказывала, я смотрел на Томаса: он был увлечен разговором с моим галеристом и вроде бы не слышал нас. Я смотрел на его шею, на подбритые волосы на затылке и за ушами: даже такие мелочи подчеркивали стабильность его отношений с миром — ни я, ни Марко не могли этим похвастаться.
— Те две недели были ужасны, — сказала Мизия. — Просто ужасны. Мне так было плохо, что подмывало все бросить и дать задний ход. Но я уже дошла до ручки. Томас сразу это понял, а еще понял, что он должен надавить на меня, если действительно хочет мне помочь. Он просто от меня не отходил, когда пошли самые-самые страшные дни. Не оставлял меня ни на час. Бедняга, ему приходилось звонить по работе из бара клиники.
Томас, который, казалось, с головой ушел в разговор с моим галеристом, повернулся ко мне.
— Вот с монетами я намучился. Там висело всего два телефона-автомата. Монеток постоянно не хватало, так мне их коробками возили из офиса.
Он улыбался гордо, как покоритель вершин, как человек, способный решить любую проблему, и смотрел на меня своими светло-ореховыми глазами, предлагая дружбу, а если надо и поддержку; немного красуясь своей надежностью и выставляя напоказ передо мной, близким другом Мизии, свои к ней чувства. Я, как ни старался, симпатии к нему не испытывал, и мне не очень нравилось, что он надавил на Мизию, пусть и ради пользы дела, но и враждебно относиться к Томасу больше не получалось; вот я и застрял где-то посередине, и рот мой кривился в неестественной улыбке.
Мизия, видимо, что-то почувствовала, интуиция у нее была потрясающая, и стиснула одной рукой мужа за локоть, а другой — меня, словно соединяя нас узами дружбы.
— Ну, хватит! — сказала она. — У Ливио замечательная выставка, скоро родятся два малыша, мы наконец-то все вместе, вечер потрясающий, я счастлива, и вы, надеюсь, тоже.
Я сказал ей, что тоже счастлив; за столом все улыбались, сами не понимая почему.
А потом наша компания распалась: ушла со своей подругой бабушка, ушла мама со своим мужем, не простившись с бабушкой, ушел и мой галерист, унося чек, выписанный Томасом; Мизия записала мне на листочке свой новый адрес и номер телефона: «Завтра мы улетаем в Аргентину, но через неделю вернемся в Париж. Созвонимся сразу же». Я остался один с Паолой на внезапно опустевшей улице промышленного ломбардского городка.
Мы ехали на нашем подержанном «рено» по автостраде в Милан; миновали пригород, новостройки, спящие торговые комплексы и гипермаркеты; оба молчали. Время от времени я поглядывал на Паолу, ожидая, что она что-то скажет после такого бурного вечера, где было столько взглядов и разговоров, но она молчала и смотрела вперед.
— Ну что? Как тебе Мизия? — не выдержал я.
Паола выдержала паузу, потом сказала:
— Ну что, очень красивая, живая, умная и все такое.
— Что? — сказал я, раздраженный тем, что говорила она как бы нехотя.
— А что еще? — спросила она, опять же, не глядя на меня.
— Тон у тебя какой-то странный. — Я нервничал, потому что она явно осторожничала и недоговаривала.
— Нормальный тон, — ответила Паола, сдержанная, верная себе и такая далекая от нас с Мизией.
— Так все-таки что? — Я вдруг понял, что ненавижу ее.
— Да ничего. — В конце концов она все же повернулась ко мне. — Если ты так настаиваешь… Пожалуй, она немного перебарщивает. Не то звезда, не то чокнутая. Привыкла быть в центре внимания и слишком хорошо понимает, что производит впечатление. Все ее слушают, хоть она и говорит о том, что касается только ее. Ну, еще она очень симпатичная и благородная, само собой, твоя давняя подруга, сразу видно. Замечательно, что она купила пять картин и помогла продать еще шесть.
— При чем тут картины! — закричал я голосом-мегафоном, которого она еще никогда не слышала. — Плевать на картины! Мне на все плевать!
Я опустил стекло, впустив в салон холодный влажный воздух; я просто кипел от ярости при мысли, что про Мизию можно вот так думать потому только, что она не укладывается ни в какую простую и удобную схему.
Через три недели после встречи на моей выставке Мизия позвонила из Парижа, приветливая и полная добрых чувств:
— Негодяй ты этакий, я все ждала твоего звонка. Сегодня привезли картины, они замечательные! — сказала она.