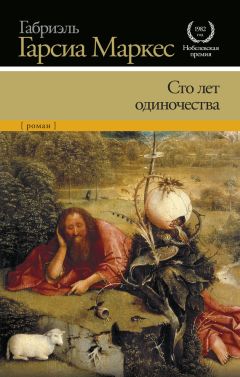* * *
События, которым предстояло нанести смертельный удар всему Макондо, уже замаячили на горизонте, когда в дом принесли сына Меме Буэндиа. Город находился в таком смятении, что никто не был расположен заниматься семейными скандалами, поэтому Фернанда решила, воспользовавшись благоприятной обстановкой, спрятать мальчика и сделать вид, будто он и не появлялся на свет. Взять внука она была вынуждена — обстоятельства, при которых его доставили, исключали отказ. Вопреки ее желанию Фернанде предстояло терпеть этого ребенка до конца ее дней, потому что в нужный час у нее не хватило мужества выполнить принятое в глубине души решение и утопить его в бассейне купальни. Она заперла его в бывшей мастерской полковника Аурелиано Буэндиа. Санта Софию де ла Пьедад Фернанде удалось убедить в том, что она нашла младенца в плывшей по реке плетеной корзине. Урсуле суждено было умереть, так и не узнав тайны его рождения. Маленькая Амаранта Урсула, которая заглянула однажды в мастерскую, где Фернанда кормила малыша, тоже поверила истории о плавающей корзине. Аурелиано Второй, окончательно отдалившийся от жены из-за ее дикого поступка, исковеркавшего жизнь Меме, узнал о существовании внука только три года спустя, когда тот по недосмотру Фернанды вырвался из своего плена и появился на минуту в галерее — голый, нечесаный, с атрибутом мужского пола, напоминающим индюшачий клюв с его соплями, похожий не на человека, а на изображение людоеда в энциклопедии.
Фернанда не ожидала такой жестокой выходки со стороны своей неисправимой судьбы. Вместе с ребенком в дом словно вернулся позор, который, как она считала, ей удалось изгнать навсегда. Не успели еще унести раненого Маурисио Бабилонью, а Фернанда уже продумала до мельчайших подробностей план уничтожения всех следов бесчестья. Не посоветовавшись с мужем, она на следующий день собрала свой багаж, уложила в маленький чемодан три смены белья для дочери и за полчаса до отхода поезда явилась к Меме в спальню.
— Пошли, Рената, — сказала она.
Фернанда не дала никаких объяснений, Меме со своей стороны не ждала и не хотела их. Она не знала, куда они идут, ей это было безразлично, даже если бы ее повели на бойню. С того мгновения, как она услышала выстрел на заднем дворе и одновременно с ним крик боли, вырвавшийся у Маурисио Бабилоньи, Меме не сказала ни слова и больше уже не скажет до конца своей жизни. Когда мать велела ей выйти из спальни, она не причесалась, не умылась и села в поезд как сомнамбула, не обращая внимания даже на желтых бабочек, продолжавших кружиться над ее головой. Фернанда никогда не узнала, да и не пыталась выяснить, было ли каменное молчание дочери добровольным или девушка онемела после обрушившегося на нее удара. Меме почти не заметила, как они проехали по бывшим заколдованным землям. Она не видела тенистых нескончаемых банановых плантаций по обе стороны железнодорожного полотна. Не видела белых домов гринго с садами, иссушенными жарой и пылью, и женщин в коротких брюках и полосатых сине-белых кофточках, игравших в карты на верандах. Не видела волов, которые тащили по пыльным дорогам повозки, нагруженные бананами. Не видела девушек, которые, как рыбы, резвились в прозрачных реках, огорчая пассажиров поезда видом своих великолепных грудей, не видела грязных и нищих бараков, где жили рабочие, — вокруг этих бараков летали желтые бабочки Маурисио Бабилоньи, а в дверях сидели на своих горшках худые, зеленые дети и стояли беременные женщины, выкрикивающие разные непристойности вслед проходящему поезду. Бывало, раньше, когда Меме возвращалась из монастырской школы домой, эти мимолетные картины радовали ее, теперь они скользнули по сердцу, не оживив его. Она не взглянула в окно, даже когда пышущие влажным зноем плантации кончились и поезд пересек поле маков, среди которых все еще возвышался обуглившийся остов испанского галиона, и вышел потом в тот же прозрачный воздух, к тому же пенному и грязному морю, где почти сто лет назад разбились иллюзии Хосе Аркадио Буэндиа.
В пять часов дня прибыли на конечную станцию долины, и Фернанда вывела Меме из вагона. Они сели в маленький, похожий на летучую мышь экипаж, запряженный лошадью, задыхавшейся, как астматик, и проехали через унылый город; над его бесконечными улицами, над потрескавшейся от морской соли землей звучали такие же гаммы, которые в юности Фернанда слышала каждый день в часы сиесты. Они поднялись на речной пароход, чья железная, изъеденная ржавчиной обшивка дышала жаром, словно печь, а деревянное колесо, загребая воду лопастями, хлюпало, как пожарный насос. Меме заперлась в каюте. Дважды в день Фернанда ставила возле ее койки тарелку с едой и дважды в день уносила еду нетронутой, не потому, что Меме решила уморить себя голодом, а потому, что ей был противен запах пищи и желудок ее извергал обратно даже воду. Меме еще не подозревала, что горчичные ванны ей не помогли, так же как Фернанда не знала об этом до тех пор, пока почти через год ей не принесли ребенка. В душной каюте, измученная постоянным дрожанием железных переборок и невыносимым зловонием, исходящим от ила, поднимаемого со дна колесом парохода, Меме потеряла счет дням. Прошло много времени, прежде чем на ее глазах погибла в лопастях вентилятора последняя желтая бабочка и она наконец осознала, что Маурисио Бабилонья мертв и это уже непоправимо. Но Меме не отреклась от своего возлюбленного. Она продолжала думать о нем, пока они пробирались верхом на мулах через полную миражей пустыню, где блуждал Аурелиано Второй, искавший самую красивую женщину на земле, не переставала думать и когда они по индейским тропам поднялись в горы и вступили в мрачный город с каменистыми крутыми улицами, над которыми раздавался погребальный звон колоколов тридцати двух церквей. Ночь они провели в старинном заброшенном доме, в заросшей бурьяном комнате, постелью им служили доски, разложенные на полу Фернандой. Сорвав с окон шторы, давно превратившиеся в лохмотья, она бросила поверх голого дерева это тряпье, при каждом движении тела рассыпавшееся в прах. Меме угадала, где они находятся, потому что, лежа без сна, с содроганием увидела, как мимо прошел одетый в черное кабальеро, тот самый, которого в далекий сочельник принесли к ним в свинцовом сундуке. На следующий день, после мессы, Фернанда отвела ее в здание мрачного вида. Меме сразу узнала его по много раз слышанным рассказам матери о монастыре, где ее готовили в королевы, и поняла, что путешествие пришло к концу. Пока Фернанда разговаривала с кем-то в соседнем помещении, Меме ждала рядом в приемной, увешанной большими старинными портретами испанских епископов, написанными маслом, и дрожала от холода, потому что на ней все еще было платье из легкой ткани в черных цветочках и высокие ботинки, покоробившиеся от льдов пустыни. Она стояла посреди приемной в потоках желтого света, льющегося сквозь витражи, и думала о Маурисио Бабилонье, а потом из соседней комнаты вышла очень красивая послушница, держа на руках ее чемоданчик с тремя сменами белья. Дойдя до девушки, она, не останавливаясь, протянула ей руку и сказала:
— Пойдем, Рената.
Меме взяла эту руку и безропотно позволила увести себя. Когда Фернанда в последний раз увидела дочь, та шла, приноравливаясь к шагу послушницы, уже по ту сторону только что закрывшейся за ней железной решетки монастырского двора. Меме все еще думала о Маурисио Бабилонье — об исходившем от него запахе машинного масла, о свите из желтых бабочек — и будет думать о нем каждый день своей жизни, вплоть до того далеко осеннего утра, в которое она умрет от старости в мрачной больнице Кракова, умрет под чужим именем и так и не произнеся ни слова.
Фернанда возвратилась в Макондо в поезде, охраняемом вооруженными полицейскими. Во время путешествия ее поразили напряженные лица пассажиров, войска на улицах городов и селений, разлитое в воздухе ожидание чего-то значительного, что должно произойти, но Фернанда не понимала, в чем дело, пока, уже в Макондо, ей не рассказали, что Хосе Аркадио Второй подстрекает рабочих банановой плантации к забастовке. «Только этого нам не хватало, — сказала себе Фернанда. — Анархиста семье». Забастовка началась через две недели и не имела тех драматических последствий, которых все опасались. Рабочие отказывались срезать и грузить бананы по воскресеньям, их требование выглядело совершенно справедливым, и сам падре Антонио Исабель одобрил его, найдя, что оно отвечает Божеским законам. Победа этой забастовки, так же как и других, вспыхнувших в следующие месяцы, извлекла из безвестности бледную фигуру Хосе Аркадио Второго, прежде слывшего в народе человеком, способным лишь на то, чтобы наводнить город французскими шлюхами. С тем же внезапным приливом решительности, с каким он распродал некогда своих бойцовых петухов, собираясь организовать бессмысленное судоходное предприятие, Хосе Аркадио Второй отказался теперь от должности надсмотрщика банановой компании и встал на сторону рабочих. Очень скоро его объявили агентом международного заговора против общественного порядка. В одну из ночей недели, омраченной зловещими слухами, Хосе Аркадио Второй чудом спасся от четырех пуль, которые выпустил в него какой-то неизвестный, подкараулив на пути с подпольного собрания. Атмосфера последующих месяцев была такой напряженной, что даже Урсула ощутила это в своем лишенном света мирке, и ей почудилось, будто она снова переживает те роковые времена, когда ее сын Аурелиано набивал свои карманы гомеопатическими шариками заговора. Она хотела потолковать с Хосе Аркадио Вторым, поделиться с ним опытом пережитого, но Аурелиано Второй сообщил ей, что с ночи покушения никто не знает местопребывания его брата.