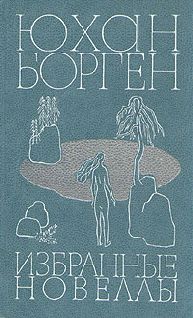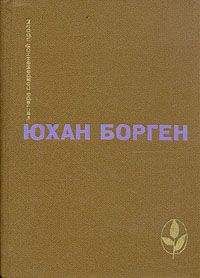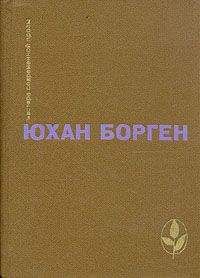Откровенно говоря, нет. По мне - пусть разъезжают взад и вперед в своих машинах, перетаскивают свертки, возят свои коляски, волокут за собой свои заботы, это же не мои, а их заботы, да и вряд ли они особенно велики, ведь сами людишки -что точечки. И их-то я пытался окликнуть в разбитое окно. Смех, да и только. Если бы мне удалось выброситься в окно, они пугливо кинулись бы врассыпную со своими сумками, колясками и заботами, да и зачем бы им беспокоиться обо мне, коль скоро я никогда не беспокоился о них? Что посеешь, то и пожнешь. Но сейчас мне нужно только одно - бежать отсюда, и кто знает, может, и они бы рады отсюда бежать... А может, люди, наоборот, спешат домой? Никогда мне не было дела до них - нет и теперь. Может, они и не ведают ничего, кроме смутной тоски, сугубо бесцельной? Как собственная моя тоска? Сон наяву, не иначе. Временами во мне даже угасает тоска. Как-то раз тот самый, кого я зову Ужом, мой друг ("ведь мы друзья, не так ли?"), спросил меня: разве, в общем, я не получил всего, что хотел? Случалось, мы даже гуляли вместе, совершали небольшие прогулки по вечерам, когда улицы пустынны; Уж и Боксер плотно подпирали меня с обеих сторон... Так вот, он, значит, спросил, разве я не доволен своей жизнью? И странным образом, правда... ох уж это декабрьское солнце - бьет человеку в лицо, пока не потемнеет в глазах... да, в тот раз он проговорился, что я будто бы продал мою квартиру на Риддерволлсгате, оформили эту сделку при посредстве моего поверенного в Цюрихе на основе моего наизаконнейшего распоряжения и подписи... неужто я все это позабыл? Должно быть, именно тогда я предложил им некую сумму, чтобы раз и навсегда откупиться от них, но в ответ оба лишь улыбнулись, словно желая сказать: "Как бы не так! Чтобы потом вы сразу помчались в полицию?"; да, наверно, весь разговор состоялся в тот раз, а после прогулки мы сошлись в японской гостиной, рядом с кафельным камином стояла - господи, прости - рождественская елочка, наверно, тогда-то я и углядел газетный квадратик на камине, наверно, они хотели напугать меня не одним, так другим. Дамы тоже были при этом, одна, в индийском сари, та самая, маленькая, с нежным лицом, - она на миг прильнула ко мне и сказала: "Луч солнца в декабрьскую стужу", а я спросил, да, кажется, я спросил, что она хочет этим сказать, и вроде бы она ответила, что жизнь старика сродни декабрю: лед, стужа и мрак венчают его конец; да, конечно, это было в японской гостиной, и, как в былые дни, я ощутил ужас при мысли, что всему миру во мне уготована смерть, она же, уловив мысль, на которую сама натолкнула меня своими словами, отрешенно, будто лунатик, подошла к елке, сказала: "А мы здесь все вместе заботимся о вас, чтобы ваш декабрь был ослепительно светел, без мрака и льда"... и остальные трое с каким-то недоумением подняли на нее глаза, а Уж с коварной усмешкой процедил, что как ни верти - конец, мол, всегда один. "Только не у колбасы, - сказал Боксер, у колбасы два конца". Все засмеялись. "А вам не смешно?" Нет, мне не смешно. Зато им было весело. Не стану отрицать, что и мне вечер этот был чем-то приятен, хоть и казался совсем далеким и никак меня не волновал, просто это была отсрочка; думалось, вот мы сидим здесь, четверка эта да я, в японской гостиной дома в городе-спутнике, а раз так, не может же быть, чтобы все прочее было правдой. Только вот что я подразумевал под "всем прочим", спустя столько дней я никак не мог в точности сказать. Потому что с тех пор "все прочее", или "это", как я часто называю его в мыслях, придвинулось ко мне столь близко, что оно уже будто и не волнует меня, по крайней мере не слишком. При том, что я знаю...
Я знаю... и снова стою посреди комнаты на тонком ковре, ощущая под ногами его жесткие полоски, потому что сегодня один из тех дней, когда мне не вернули ни носков, ни ботинок, и потому я стою на середине комнаты в пальто, но только босой и пытаюсь сосредоточиться на том, что знаю. А что еще я хочу узнать? Я ведь сказал себе, что знаю все. Впрочем, сказал ли? Я веду разговор с самим собой, обращаюсь к себе, или к "Нему", только этот разговор без слов, без звуков - здесь ведь могут быть спрятаны микрофоны... Словом, я знаю,
что они не оставят меня в живых;
что число людей, пропавших без вести, скоро увеличится на единицу наверно, сумма, хранящаяся у моего поверенного в Цюрихе, вот-вот иссякнет;
и еще я знаю, что сейчас около трех часов дня.
Я определил время по солнцу, оно как раз садится за горой, которая видна за башнями домов, что высятся за детским садом, и машины, первые машины едут домой, в город-спутник. Солнце золотит плоские облака над горой - не потемки, а свет принес с собой закат. Вдруг облака разом погасли. От волнения в груди у меня перехватило дыхание.
Стук в дверь. Обычно они входят без стука, значит, на этот раз что-то не то. Снова стук. Терпеливый, негромкий.
Я стою у окна, лицом к заходящему солнцу. Закат догорел. Лишь высоко над ним смутно желтеет золотой венчик - картину эту я видел еще ребенком на грошовой репродукции в каком-то журнале, должно быть в детском журнале "Магне", в ту пору я был от нее без ума, странно, чего только не сберегает память. Снова стук в дверь, а небо за окном блекнет, блекнут лучи закатного солнца, будто, прежде чем погаснуть, цепляясь в отчаянии за легкие облачка, и тут в четвертый раз раздается стук. Кажется, я сказал: "Войдите".
В добрый путь! Перевод С. Тархановой
Мой сосед собрался сойти на ближайшей станции. Тот самый мужлан, который пять-шесть остановок назад спросил: "Место свободно?" - и с размаху плюхнулся на сиденье, да так, что тряхнуло все купе. Сейчас он сгребает свою поклажу - газеты, разные вещи, которые он расставил на полу или сложил в висячую сетку, - поразительно, сколько вещей всякий раз тащит с собой человек, чтобы проехать всего лишь несколько километров.
Сам я выглянул в окно - проверить, подъехали ли мы уже к станции, быстро взглянул на часы, затем снова - в окно. Мы едем мимо кладбища длинного, узкого. Странно, раньше я не видел его, а ведь я сто раз, не меньше, проделывал этот путь на том же поезде в городок, откуда старомодный рейсовый катер - мой давний приятель - отвезет меня к морю, туда, где стоит мой дом.
Глаз все подмечает: кладбище ухожено, тут и там братские могилы одинаковых размеров, с одинаковыми памятниками. Кто покоится там: жертвы минувшей войны? Или мертвые матросы с одного и того же затонувшего корабля? Странно: ни церквушки, ни даже часовни. Значит, здесь больше не хоронят. А все же могилы ухожены. Есть ли на свете что-либо безутешнее кладбища, на котором уже не хоронят? Мелькнула мысль: как бесконечно много можно увидеть и передумать за несколько секунд, пусть всего лишь за две-три. Поезд сбавляет ход. Значит, мужлан, тот, что повсюду разбросал свои вещи, правильно рассчитал время. Но я по-прежнему не узнаю здешних мест. Хотя вот мы нырнули в туннель - первый, средней длины, затем второй, короткий, будто знаки азбуки Морзе. А все же откуда взялось это кладбище? Никогда прежде его здесь не было. Но может, я просто потому раньше не замечал его, что к концу пути мысли разбегались в разные стороны - или наоборот: ты уже сосредоточен на всем, что тебе предстоит - сойти с поезда, броситься за покупками, которые надо сделать перед отходом катера, словом, ты весь в ожидании... "пожалуйста, не забудь зайти в аптеку, да, и в винную лавку, и в табачную тоже, конечно", всюду нужно заглянуть, где можно поправить здоровье и его погубить, "значит, не забудь про аптеку и обе лавки", а ведь, кажется, она еще велела купить какого-то определенного сорта шерсти для вязания, да, точно! - вот в левом кармане пиджака смятая записка. Хотя нет, не то. Тогда записка, значит, в кармане пальто, которое висит рядом с окном. Совершенно верно!
Таинственные значки, определяющие качество шерсти, толщину нити, выделку и цвет... уж для него дело чести - расстараться, чтобы вновь не увидеть обидного всепрощения в ее взгляде, как только она развернет покупку, во взгляде, который скажет: "Господи, ничего этим мужчинам нельзя поручить...", а губы пропоют, приветливо улыбаясь: "Ах, спасибо, как же, спасибо огромное, ты привез именно то, что я хотела...", и только легкий оттенок голоса выдаст, что... нет, совсем другую шерсть должен был ты купить.
Поезд заметно сбавляет ход. Отсюда видны церковь и кладбище - другое, настоящее кладбище, где покоятся добрые люди, завершившие свой жизненный путь. Но как же все-таки я не заметил второго кладбища, точнее - первого, если считать по ходу поезда? Хоть и понятно волнение путника, который вот-вот окажется дома... да еще этот водоворот покупок - вина, лекарств, шерсти, "а почему бы тебе не прихватить еще хороший кусочек семги?" ("Господи, еще и это!"), да, хоть ты и поглощен обилием поручений, но мыслимо разве проделать один и тот же путь сто раз кряду, не меньше, и не заметить кладбища, от которого мы сейчас, должно быть, уже отъехали километра на три-четыре! Я даже запомнил женщину, которая выходила в тот миг из железных кладбищенских ворот: она шла понурив голову, но на ней не было траура. Наверно, навещала какую-нибудь могилу, по обязанности, конечно, может, даже терзаясь чувством вины - а может, то была просто веселая вдова, спешившая лишь исполнить свой долг перед покойным мужем, моряком, капитаном корабля, которого, в сущности, давно позабыла. Поразительно, как много можно увидеть или угадать за какие-нибудь две-три секунды. Я встал, все, кому сейчас выходить, тоже встали - так никогда и не приучимся не торопиться, и это вечно кончается одним и тем же: потеряв равновесие, мы падаем друг на друга - куча мала. Дама, стоявшая сзади, навалилась на меня, от нее пахнет луком. Впереди - тот самый мужлан с ворохом свертков. Он стоит как стена.