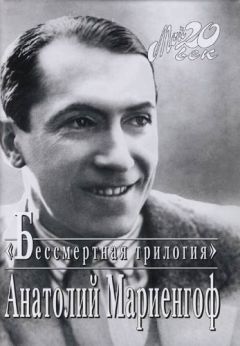Нева… На низких берегах
Великолепные строенья.
Я в том осеннем настроенье,
Когда от всяких дел в бегах.
По Летнему гуляю саду,
Листву опавшую топчу,
На черную гляжу ограду,
Стихи забытые шепчу.
Тут мрамор, взгляд куда ни кинь,
Богов античных и богинь.
И в этом, условно говоря, “пушкинском сюжете” вполне логичны казавшиеся некогда парадоксом строки, что поразили читателей “Дня поэзии” в 1966 году:
За гробом шел один Сальери
И под дождем стоял потом.
“Вариация на старую тему”, как назвал стихотворение автор, трактует не вопрос о гении и злодействе, а вопрос о смерти и забвении.
И тут следует вспомнить другой сюжет, “московский”. Проходят в стихах городские реалии: Сокольники, Арбат, Нескучный сад:
Сверну в Столовый переулок,
Увижу старый серый дом —
Щиты и копья на фасаде
И морды греческих коней.
И вспомню школьные тетради
И радости голодных дней.
Эти воспоминания, скажем, память о Собачьей площадке, где стоял особняк Музфонда, прибежище безвестных композиторов, кажутся ироничными — но только поначалу.
Шли они сюда за ссудой.
Дым струился над котельной.
На углу — ларек с посудой
Рядом с лавкой москательной.
Нет в помине тех построек.
Нынче здесь горят витрины.
Только дух былого стоек,
Точно запах керосинный.
Вспоминаю: жили-были,
Прочным все вокруг казалось.
Композиторы в могиле,
Музыка одна осталась.
Здесь “московский” сюжет смыкается с “ленинградским”: та же мысль о забвении обо всем, кроме свидетельства музыки.
Но “московский” сюжет трагичен. Автора, блуждающего то по Тверскому бульвару, то в каком-нибудь из арбатских переулков, вела судьба, предсказанная им в давнем стихотворном наброске, которому придала завершенность смерть.
Уйдет он, не воротится
Походкой воровской
По улице Воровского,
По бывшей Поварской…
Туда и выходит заднее крыльцо ЦДЛ.
Постепенно уточняясь, выстраивается поэтический образ мира, перерастая какое бы то ни было однозначное толкование.
Вот стихотворение “Дирижабль”, посвященное советскому символу тридцатых годов.
В синеве над моею страной,
Ждавшей хлеба и керосина,
Он летел, серебристый, большой,
К животу прижимая корзину.
Он парил нереальнее сна,
Каплей двигался по небосводу,
И тогда забывала страна
Про лишенья свои и невзгоды.
Трогательность, с которой дирижабль прижимает к животу корзину, требует сострадания:
Сетью схваченная пустота,
Облако в авоське огромной!
Жест, вызывающий сочувствие к дирижаблю, как вызывают сочувствие и люди, стоящие в очередях, держа в руках пустые авоськи.
Поэт видит и государственную машину, и результат ее работы — безликие кладбища, где на могилах стоят крест-накрест приваренные водопроводные трубы.
Сколько было их в Отчизне
И ушло: кто млад, кто стар.
Отработанные жизни
Растворились, точно пар.
Да и насчет себя он не заблуждается:
Я разделю века на семилетки,
Возьмусь, земную ось согну в дугу.
Я бьюсь в прозрачном пузырьке, как в клетке,
И вылезти хочу и не могу.
И пусть “прозрачный пузырек” (оставим нарочитую перекличку с пастернаковскими стихами “И разве я не мерюсь пятилеткой…”) можно толковать двояко, возможно, это какой-нибудь мыльный пузырь, этакий символ безоблачного детства, но больше образ напоминает о сцене из рассказа Г. Майринка “Человек в бутылке”, кстати, знакомого по русским переводам. Потешно кривляющийся человек, который вызывает у зрителей приступы смеха, кривлялся, потому что ему не хватало воздуха. В конце концов он задохнулся.
И все же Смирнов бежит от трагизма. Он может быть остро ироничен, как в поздних стихотворениях, может отчетливо чувствовать бессмысленность жизни, но резонерство или гамлетизм ему чужды. Эксцентрика, с какой он рисует собственный портрет, — это эксцентрика обстоятельств, а не мироощущения.
А я гляжусь в блестящий чайник,
И на поверхности его
Меня волнует чрезвычайно
Забавнейшее существо.
Как жерла ноздри, щеки гладки,
И плотоядно рот разъят,
И где-то на макушке глазки,
Как две горошины, сидят.
Тут уместно вспомнить и автопортрет Александра Кушнера, обычного городского жителя, по его собственному утверждению:
Под сквозными небесами,
Над пустой Невой-рекой
Я иду с двумя носами
И расплывчатой щекой.
И старательно прозаизированный автопортрет Бориса Слуцкого — “краснорожий, дошлый, ражий”. Но слышится тут и двойная цитата из В. В. Розанова — вызывающий портрет автора “с выпученными глазами и облизывающийся” плюс ответ на извечный вопрос, что делать: “Варить варенье, а зимой пить с ним чай”.
Пожалуй, абсолютная нормальность и опасение ее потерять и мешали Смирнову оставить инженерство и стать профессиональным литератором. Между тем он, судя по всему, серьезно задумывался над своим положением, своеобразно выстраивал последовательность стихов. Так стихотворение “Выси бледные светлы…” заканчивает книгу “Обруч” и открывает книгу “Времена года”, — и это не случайность. Но имеются и сомнения: “Меня не устраивает поэзия того кружевного направления, когда все, что увидено, — описано (иногда с большим вкусом), и описания нескончаемы. К середине забываешь, с чего началось стихотворение. Его можно прервать в любом месте, но ничего существенно не изменится”.
То же неприятие присяжного стихотворства и в стихах
Профессионалы… Запах пота
В раздевалках. Надобно понять:
Это ведь нелегкая работа —
На зеленом поле мяч гонять.
Как указал комментатор, Вадим Черняк некогда был футболистом, отсюда футбольная тема. И Смирнову (в меньшей степени), и Черняку, и Аронову (список можно длить) мешали издаваться, а потому вопрос о профессионализме переходил в область самоуговоров, во враждебных обстоятельствах пробовали отыскать и нечто положительное. Дилетантам интересно их занятие.
Вы играете самозабвенно,
Мил мне ваш младенческий азарт,
Вы вперед стремитесь непременно!
(А потом толпою всей — назад.)
Мечетесь по полю оголтело,
Вам побегать лишь бы, поорать.
Профессионалы знают дело.
Крепко знают. Скучно им играть.
Кстати, уточним еще один комментарий. Стихотворение “Шекспир сюжеты воровал…” с бравурной концовкой:
Когда бы доходили руки,
Закрыл бы Скотланд-Ярд и МУР.
Воруйте, милые, воруйте,
Чета честнейших братьев Тур, —
означает не то, что “лучше уж заниматься плагиатом, нежели создавать собственные, но весьма скучные творения”. В стихах отразилась запечатленная и окололитературным фольклором “титаническая” битва между Иосифом Прутом и братьями Тур, которые оспаривали долевое участие в общей пьесе, следовательно, право на гонорар.
Несмотря на неточности, и Г. Лукомников, выступивший составителем и комментатором, и издатель В. И. Орлов, чьими стараниями увидел свет также сборник Е. Кропивницкого, достойны всяческих похвал. Книга замечательна, и то, что вобрала она около половины стихотворений Смирнова, дает возможность надеяться на второй том, ведь, как отмечалось, произведения его в большинстве случаев равноценны, а потому следующий сборник был бы не хуже (пробовал Смирнов писать и прозу).
В благодарность энтузиастам, вернувшим читателям необыкновенного автора, приведу сведения, им наверняка неизвестные, но могущие пригодиться. Ставшее песенкой стихотворение


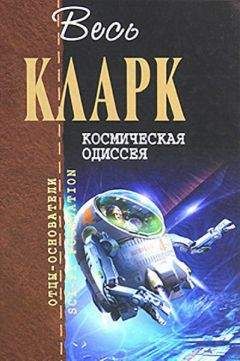
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)