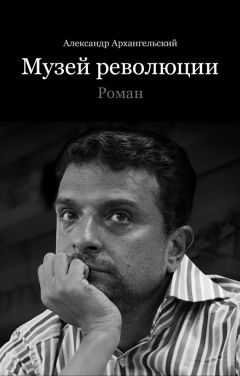В этот день она ждала клиенток, очередных московских вертихвосток; их перенаправил к ней Аркадий Гайдамак. Аркадий — очень странный человек, изображает из себя аристократа, фрачная рубашка, бордовая бабочка, в верхнем кармане душистый платочек, а при этом деньги делает на реборнах — мерзопакостных полуживых игрушках, которых настоящий кукольник не переносит.
Клиентки запаздывали; Тата кроила панталончики для негритоски (мечта любого мастера — заказчик, влюбившийся в куклу и каждый сезон обновляющий ей гардероб). И по привычке громко напевала:
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне помнить обещай…
Только допев до конца, она услышала возмущенно-громкий стук, подкрепляемый протяжными звонками. Ох ты, она чересчур увлеклась; клиентки слышали ее вокальное безумие; как же стыдно, стыдно, стыдно.
И Татьяна отворила дверь.
На пороге — две светские дамочки. Одна упругая, другая стройная; от обеих пахнет, как перед летним дождем; на лицах вежливое недоумение — нет, наверняка все слышали. Причем позвонили не сразу; небось стояли, дуры, и хихикали.
Татьяна помрачнела, напряглась:
— Входите.
Та дамочка, которая упругая, представилась:
— Ой, здравствуйте, как хорошо, что вы такая, а мы тут слышали, как вы поете, здóрово, ну правда, очень здóрово, меня зовут Натуся, про меня вам Каша Гайдамак звонил, а это моя компаньонка, вы не против, мы сегодня будем вместе?
— Нет, не буду, — сказала Татьяна.
Наверное, ей полагалось говорить помягче, как бы стелясь перед заказчиком, тем более Натуся оказалась молодец, спокойно и просто призналась, что пение они подслушали, и это было правильно, без экивоков, неловкость сразу же была снята, но все равно смущение не рассосалось. Значит, Натуся. Понятно. А как зовут ее подругу? Не спросила.
— У нас тут душновато, но ничего, пройдемте в мастерскую.
Как водится, богатые заказчицы стали охать, ахать и хватать игрушки, уважительно ощупали сварочный аппарат и защитную маску; с каждой минутой Тата проникалась добрым чувством к толстомясой прыгучей Натусе, а к ее молчаливой подруге — недобрым. Эта субтильная девушка, в легком фисташковом платье, с широким белым поясом чуть выше талии, даже не пыталась сделать вид, что ей симпатична Татьяна; она крутила в тонких пальчиках зверушек, для проформы бурно восторгалась, а сама все время зыркала на Тату, и взгляд ее был нехорошим, пытливым. Татьяна внутренне закрылась от нее; на все вопросы отвечала, адресуясь исключительно к Натусе, но тоже постоянно взглядывала на ее пытливую подругу.
В конце концов они договорились о пастýшке, белокурой и голубоглазой (Натуся в детском стиле набросала эскиз); пастýшка не должна быть гуттаперчивой, рост гренадерский — полтора метра. Долго обсуждали цвет лица; Татьяна настояла на своем — чистая фарфоровая белизна.
— А почему вы не хотите сделать естественный цвет? — как бы наивно спросила подруга, неприятным нарочитым голосом, и Татьяна едва удержалась от резкости; на какое-то мгновение ей показалось, что заказчицы заранее узнали про ее трагедию, и теперь куражатся — нарочно.
— У каждого мастера свой стиль, — выдавила она вежливую отговорку.
— Но вот же у вас, стоят совсем другие куклы? — продолжала гнуть свое подруга, и цапнула ее любимую работу: молодой актер и пожилая дама, страстная поклонница его таланта, у актера раскраснелись щеки, сквозь плотные слои косметики на шее дамы проступают пигментные пятна. Куклы получились славные, и Татьяна их скопировала для себя.
— Это мой прежний период.
— А. У вас периоды. Как интересно.
Нет, ну какая нахалка. И глаза опасные, горячие, словно бы слегка температурные; неужели девушка беременна? вроде нету никаких намеков, живот оскорбительно плоский.
И Татьяна повернулась к упругой Натусе.
4В лаборатории сказали — через месяц. Но позвонили на четвертый день.
— Павел Савельевич? А вы не хотите приехать сегодня? Мы по вашим пленочкам работаем, есть кое-какие результаты. А? что? почему так быстро? Потому что стало интересно, материал у вас какой-то необычный.
По веселой апрельской дороге Павел долетел до Площади Победы за рекордных полтора часа, но безнадежно застрял на Московском проспекте. Потолкался в пробке, понял, что это надолго, и решил поехать на метро. Унылый узкий эскалатор был медлителен; станция сумеречна; люди со стертыми лицами сомнамбулически толпились у закрытых створ. На противоположную платформу прибыл поезд; из него с веселым гиканьем вывалилась группа молодежи, в безразмерных синих майках с надписью «Возьми свой крест». У каждого в руках большая связка крестиков, напоминающая связку бус; точь-в-точь цыгане у Финляндского вокзала, торгующие жалкой бижутерией: молодой, купи, задешево отдам.
— Молодой человек, вам нужен крестик? — обратилась к Павлу крепкая, надежная деваха; было видно, что она без лифчика, раздвоенная горка распирала ткань.
— Не нужен, — холодно ответил Павел.
— А чего так? — девушка слегка обиделась.
— Ничего. Просто крестики не раздают налево и направо.
Девушка его не поняла, пожала круглыми плечами, всколыхнув раздвоенную горку, и занялась другим мужчиной:
— Не хотите крестик?
Через полчаса Саларьев был уже в лаборатории; суровая седая дама разложила дымчатые, как присыпанные пеплом, отпечатки; он с изумлением смотрел на карточки, а дама с любопытством — не него. Вот этот самый гигант, в замызганном кожаном фартуке; лицо катастрофическое, тяжкое; выцветшие белые глаза. Следом молодые офицеры, позируют на фоне заколоченной усадьбы, отжимаются на самодельных турниках, заседают в приютинском театре. А вот совсем другие карточки, их бесконечно много: изможденные, истерзанные люди, снятые на фоне мятой простыни; в руках бумажки с указанием фамилий. Пожилой мужчина, Григорьянц А. М., 1891 г. р. Пегие растрепанные волосы, измученное лицо, глаза, в которых нет ни ужаса, ни радости, одно застылое недоумение. Встревоженный подросток лет пятнадцати-шестнадцати: Самсонов И. И., 1922 г. р. Молодая женщина, со стертым старушечьим взглядом. Мухаметшина Д. М., 1917 г. р. Усталые бородачи, похожие на упорных старообрядцев, узнаваемый бывший чекист с презрительно застывшей миной: вы еще не поняли, кто перед вами…
— Слушайте, — сказала дама ленинградским прокуренным голосом. — Но ведь этого не может быть. Вы сказали, что снимал какой-то там юродивый. Положим, я в юродивых не верю. Есть либо жулики, либо больные. Но даже если допустить, то все равно. Это же на снимках заключенные? И судя по всему, перед расстрелом? Как ему позволили снимать? тем более потом отдали пленки? Вот у вас какие версии?
— Не знаю.
— И я не знаю. Что, должна признаться, крайне неприятно.
5Священник явно ждал прихода Павла; он торжествующе сиял, как первоклассник, знающий решение задачи или подготовивший родителям сюрприз.
— Что, получились фотографии? Вы ведь по поводу снимков, я угадал?
— А вы откуда знаете, отец Борис?
— Ну, тайна сия невелика есть! Ладно, ладно, Павел, все открою, только пока не спешите. Дайте я сначала фотки посмотрю.
Он вгляделся в отпечатки и как будто спал с лица.
— Вот они, значит, какие…
— Отче, кто — они?!
— Да те, кого расстреливали за театром. Помните, нам передали черепа? Дырочки такие характерные… не автомат и не винтовка, типовой довоенный наган, семь с половиной мэмэ, офицерский.
— Это вы по дырочкам определили? — съязвив, Саларьев тут же устыдился: — Нет, ну на самом деле, отец Борис, как вы отличили офицерский от солдатского?
— Я же все-таки бывший военный. Пока мозги не развернулись в правильную сторону, любил ковыряться с оружием… В тех черепах было по два, а то и по три отверстия, причем попадания кучные, встык.
— И что это значит?
— То, что самовзвод не заблокирован. Солдатам пули приходилось экономить, а офицерам позволялось тратить, не считая. Смертника ставили на край, целились прямой наводкой в голову, и палили, так сказать, в автоматическом режиме… вот, видите на этом страхолюде длинный фартук? Кровь отстирывается плохо, а мозги легко, но оттирать их очень неприятно.
Отец архимандрит совсем померк. Но Павел настырно продолжил:
— А как сюда пустили дядю Колю?
Священник вздохнул.
— Вы его тетрадку полистали? Прежде чем отдали мне?
— Разумеется.
— Циферки заметили?
— Еще бы. Но что они значат, не понял.
— А это потому что вы историк. Были бы из долгополого сословия, другое дело. Это ж вечная бурсацкая забава, шифровать записочки по катехизису владыки Филарета.
— Это какого Филарета? Того, который Пушкину писал?
— Вот-вот, его. Первая цифра — номер вопроса, вторая — порядковый номер слова, третья — номер буквы. Знаете, как маленькие дети — очень любят тайные записки? Вот и бурса такая же. Правда, я учился на заочном, в зрелом возрасте, но и нас к таким забавам приохотили. Я же говорю, детсадовские шутки.