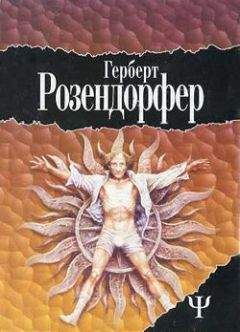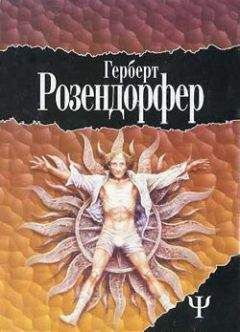– Да, – вздохнул герр Густав, – такие вот дела (это многозначительное замечание, впрочем, ни к чему не относилось, и меньше всего – к вышеописанному диалогу).
Что ж, первого ноября так первого ноября, подумал Кессель, хотя зимой еще и не пахло.
На улицах не было ни души. Кессель отпер замок и отвязал велосипед от старинного чугунного столбика, к которому всегда привязывал его вечером. Утро было по-осеннему холодным, но ясным, и чувствовалось, что днем будет тепло, а какое-то время, возможно, даже жарко. Сколько дней осталось до первого ноября? Кессель стал считать и вспомнил, что сегодня двадцать девятое октября, день рождения Анатоля Крегеля и Отто Егермеиера, день, который он когда-то решил отмечать как праздник.
Крегель, он ведь тоже человек, подумал Кессель, взгромождаясь на велосипед. Надо устроить ему день рождения.
Было два места, где Кессель превращался в Крегеля. Временами ему казалось, что он ощущает это превращение физически. Иногда он опасался даже, что эта навязанная ему игра кончится шизофренией. Утешало его лишь то, что он при этом пребывал в полном сознании: когда знаешь, что с тобой происходит, сумасшествие не грозит. Таких мест было два, потому что Кессель ездил на работу двумя путями, верхним и нижним. Расстояние в обоих случаях было примерно одинаковым. Разве что «верхний» путь был богаче впечатлениями: он вел через Площадь Вислы, потом по безымянной дорожке с мостиком, соединявшим оба берега Нойкельнского канала с тех пор, как Ломюленский мост перегородили Стеной, потом по Буше и Гарцерштрассе. а оттуда на Эльзенштрассе. На этом пути Кессель превращался в Крегеля, проехав ржавую чугунную крышку канализации в северной части Площади Вислы – крышка брякала, издавая глубокий, ни с чем не сравнимый звук скрытого под ней бетонного колодца. К счастью, движение в этой части площади было небольшое, так что Кесселю практически всегда удавалось проехать по крышке, находившейся на самой середине проезжей части.
«Нижний» путь, которым Кессель по ему самому малопонятным причинам ездил чаще, проходил по Везерштрассе, по площади поэта Вильденбруха и затем по улице Эльзенштег. Тут превращение осуществлялось с несколько большим трудом.
Улица Эльзенштег давным-давно была превращена в пешеходную зону и с обоих концов была ограничена лесенками. Кесселю приходилось слезать с велосипеда и тащить его по лесенке на руках. Сама улица была настолько короткой, что Кессель даже не садился на велосипед, а вез его рядом с собой. На ней и происходило превращение. Иногда Кесселю казалось, что при входе на эту улицу он просто теряет имя. становится никем, вообще исчезает из мира, вновь обретая плоть, лишь спустившись со ступеней Эльзенштега. Вечером, когда Кессель возвращался с работы домой, процесс, естественно, повторялся в обратном порядке – независимо от того, каким путем он ехал, верхним или нижним. Это действительно была полная идиллия.
У себя в номере Кессель был Кесселем. Курцман, посетивший новое отделение седьмого марта в первый и единственный раз, отметил, что частную квартиру тоже нужно было снимать на служебное имя. «Сказали бы жене сразу, чем вы занимаетесь, – заметил Курцман, – в конце концов, рано или поздно вам все равно придется это сделать».
Кессель напомнил, что он писатель, что ему приходится вести переписку и т. п.
– Лучше всего вам было бы бросить это дело, – заметил Курцман. – Писатель – это нехорошо. Чем черт не шутит: а вдруг в один прекрасный день вы проснетесь знаменитым. Вашу фотографию напечатают в «Шпигеле», и все пропало.
– Это вряд ли, – признался Кессель.
Первого марта Бруно распростился с пансионом «Аврора» и занял две комнаты в квартире за магазином, оклеенные желтыми обоями. Мебель Бруно подбирал себе сам, добросовестно стараясь не выходить за рамки сметы – впрочем, запросы у него были достаточно скромные и, кроме того, одно его появление плюс непоколебимое спокойствие при любых попытках торговаться обычно обеспечивало ему весьма солидную скидку (Кессель целых несколько дней с опаской наблюдал за каждодневной выгрузкой мебели и успокоился, лишь окончательно убедившись, что комода среди нее нет). Именно Бруно нашел потом и Кесселю новую квартиру на Везерштрассе. Это был очередной пансион, и мебель там опять была хуже некуда, но Кессель был доволен: во-первых, не нужно было ничего покупать, а во-вторых, ему не грозило возвращение комода.
В новой квартире Кесселю принадлежал только один предмет, который при всем желании трудно было назвать мебелью: это был большой черный барабан. Он был со всех сторон обтянут лакированной кожей и, очевидно, принадлежал в свое время какому-то славному полку. Бруно подарил его Кесселю на новоселье.
– М-м, спасибо, – сказал тогда Кессель. – А что я с ним буду делать?
– Ну, – сказал Бруно, – его можно использовать вместо тумбочки.
Отцепив велосипед от столбика, Кессель пощупал шины: надо бы подкачать, подумал он. Он посмотрел на свою руку: пальцы после прикосновения к шинам были черными и жирными. Кессель принадлежал к людям, которые терпеть не могут, когда у них грязные руки. Мало того: до тех пор, пока ему не удавалось их вымыть, он нервничал, выходил из себя и ссорился с лучшими друзьями. Хотя грязные пальцы он, конечно, еще мог вытерпеть. Но ладони… Скалолазание, говорил Альбин Кессель своему брату Леонарду, одно время увлекавшемуся альпинизмом и пытавшемуся уговорить его поехать с ним в Альпы, меня не прельщает. Скалы-то грязные. Нет, я ничего не имею против альпинизма, но на этих ваших горах весь перемажешься. А воду туда так до сих пор и не провели. Так что извини, говорил Кессель, но для меня это слишком негигиенично.
– Возьми с собой дюжину гигиенических салфеток, какие подают в любом ресторане, когда закажешь курицу, – советовал Леонард.
– Нет, салфетки – это не то. Они мне тоже не помогут. Мне нужна вода, и желательно горячая. Из-под крана. И мыло. И еще полотенце.
– Вот этого я уж никак не понимаю, – возмущался Леонард.
– Извини, – повторял Кессель, – но для меня это… Ну, представь себе, что ты беседуешь с самой прекрасной женщиной в мире и видишь, что она готова тебе отдаться. А тебе ужасно хочется в клозет. Теперь понятно? Единственное, что тебе сейчас надо в жизни – это клозет, а до ближайшего клозета десяток километров. И тут никакая женщина в мире…
– Н-ну, – сказал Леонард, – теоретически я могу, конечно, это понять. Но…
– А для меня это самая что ни на есть практика, – вздохнул Кессель.
Кессель все еще разглядывал свои пальцы. Убедившись, что пальцы замазались основательно, так что ему все равно придется подниматься к себе и мыть руки, он пощупал шины еще раз. Сомнения не было придется подкачивать. Это значит: подниматься наверх, мыть руки потом искать насос, спускаться, накачивать шины, потом снова идти наверх и опять мыть руки…
Поднимаясь к себе, Кессель мысленно составлял текст нового приказа по отделению: считать велосипед служебной машиной и вменить Бруно в обязанность ежедневно подкачивать шины или хотя бы щупать их на предмет выявления падения давления. Бруно было все равно, какие у него руки. Краны с водой его не интересовали, его интересовали только краны с пивом – по крайней мере, до последнего времени. Или Эжени (к/л Евгения, выговаривается по-немецки, однако Кессель тоже часто ловил себя на том, что ему хочется произнести это имя на французский лад; герр Примус во всяком случае выговаривал его только по-французски. Сама Эжени, впрочем, делала вид, что ее это не волнует) – она ведь тоже его подчиненная: почему бы и ей лишний раз не пощупать его шины? Но в первую очередь это, конечно, работа для Бруно. Когда Кессель с помытыми руками и насосом под мышкой вышел на улицу, рядом с его велосипедом стоял герр Густав, улыбаясь вовсю. «Славный денечек! – приветствовал он Кесселя – А я вам тут камеры подкачал, они совсем спустились».
И, подняв в воздух свой насос – старинный, еще чугунный, – герр Густав отсалютовал им, приставив к своей синей кепке, и пошел к дому.
Кессель крикнул ему вслед: «Спасибо!», вставил свой насос в зажимы на раме (по вечерам он уносил его домой, чтобы не украли, но с сегодняшнего дня насос будет храниться в отделении как очередной инструмент, препорученный заботам Бруно), уселся на велосипед и поехал по Везерштрассе, то есть «нижним» путем.
Велосипед – по крайней мере, в хорошую погоду и по ровной дороге – это истинное наслаждение. С самолетом никакого сравнения. Там ты сидишь в железной клетке, тебя трясет, в ушах гремит и всюду воняет керосином. Не говоря уже об автомобиле. Велосипед – это парение, потому что седок тяжелее машины. Машина настолько хрупка и чувствительна, что стоит лишь как следует нажать на педали – и ты уже отделяешься от земли. Для этого не требуется ни вонючего керосина, ни бензина – только равновесие. Закон земного тяготения преодолевается здесь не силой, а хитростью. Теперь понятно, подумал Кессель, почему велосипедисты всегда довольно насвистывают – во всяком случае, когда у них все в порядке. И когда у них мытые руки.