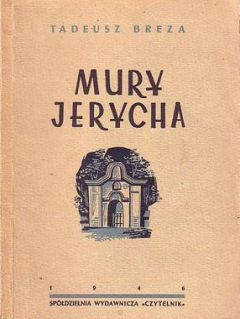- О родителях думаю I в последнюю очередь, - сморщил лоб Дикерт. - Они для них спасение, а не только близкое окружение.
Я не раз начинал разговор с сыном. Он не хотел. Всегда одно и то же: то увертки, то недомолвки. Будто я полицейский комиссар.
Однажды он сказал мне, дескать, не может забыть, что я был президентом города. Тоже мне крупная фигура!
Дикерт горько рассмеялся.
- Говорит мне такое дома. Спустя столько лет, и это мой собственный сын обращается ко мне с таким упреком. Ничего подобного ни от кого я не слышал в магистрате, пока был президентом. Все ко мне тогда относились как к отцу.
Тут он не выдержал и закричал:
- Согласившись на подобные отношения, на подобные отношения отцов и детей, господь бог рискует проиграть человека.
Ельский, чтобы утешить его, напомнил:
- У вас, господин президент, есть ведь еще дети.
Старик вскочил, плед сполз на пол, он подтянул его и набросил на себя, словно это была тога из верблюжьей шерсти.
- Нет, - закричал он, - нет. Когда теряешь ребенка, только тот и есть, которого теряешь.
По глазам Ельского ему показалось, что тот не верит ему.
Дикерт бросил на чашу весов всю силу своего убеждения.
- Да, да! - трясся он всем телом. - Хотя бы их у вас были тысячи!
Мать, по-видимому, считала, что есть и другие причины, по которым оба они были так привязаны к Янеку.
- Этот ребенок нам вообще немалого стоил. В детствесплошные хвори, весь был покрыт коростой. Два года болел.
Доктора, правда, находили его вполне здоровым, а у него и местечка на коже не было, которое бы не болело. Ни спать, ни сесть, ни опереться обо что. И все чесался, чесался. Вечно приходилось воевать с этими его руками. Всегда ухитрялся одну освободить. И давай сдирать с себя кожу.
Прикрыв глаза, она сразу все вспомнила, теперь взгляд ее был полон ужаса.
- Когда кожу привели в порядок, болезнь перекинулась внутрь. То желудок, то малокровие, то легкие. И знаете что, - она скорее мужа просила подтвердить ее слова, чем старалась привлечь внимание Ельского, - болезнь для него была словно алкоголь. Весь покрывался красными пятнами, чего-то требовал, метался, все хватал. А как выздоравливал, будто в сон погружался. Только книжки, да и то над одной неделями просиживал. За то время, что его брат прочитает, скажем, все произведения Словацкого, Ясь едва успеет кончить "Кордиана".
Дикерт посчитал, что она что-то путает.
- "Кордиана"! - сказал он.
- Я и говорю.
- Как она сказала, - слегка сбитый с толку, спросил он Ельского, "Конрада", а?
Но она улыбнулась, и ее теплый взгляд растопил без остатка это недоразумение. Так что Ельский промолчал.
- Мы с мужем все хуже слышим, но понимаем друг друга все лучше.
Дикерт чуть нахмурился, он не любил, когда так несерьезно относились к его старости.
- А школы? - заметил он, только что появившееся на его лице недовольство ие успело еще исчезнуть. - Его спасал всегда один предмет. Сначала география, потом математика.
Продолжила жалобы опять она:
- И вечно какие-нибудь истории с учителями. У всехничего не понимает, зато у одного слишком много. Тот сначала жаловался на него, ведь Янек ничуть не походил на отличника, которых в школе любят, таким учение на пользу и здоровью не вредит. А тут-нет. Оя забивался на последнюю парту, мрачный, пытался решить проблемы, которых не понимал; а те, с которыми уже разобрался, вызывали у него скуку. У доски мучил учителя, ибо то решал задачу в два счета, перескакивал от одного действия к другому, да еще в уме, а то часами бился над простой вещью, сомневаясь в самих принципах.
Муж добавил, поясняя:
- Она это знает. Находилась к директору!
Госпожа Дикерт вспомнила еще об одном и сама удивилась.
- Вы не поверите, - сказала она, - пришлось нанять репетитора по математике. Учитель потребовал, чтобы Янек соответствовал общему уровню: "Класс должен быть более менее ровньм, а ваш сын всегда отвечает чересчур умно". Он намучился, пока приноровился к средним ответам, без чего, как дал ясно понять директор, нечего и мечтать об окончании школы.
- Ну, в конце-то концов он сдал, - попытался сгладить углы Ельский.
Старика даже передернуло при одном воспоминании об этом.
- Да только на бумаге. - Он покраснел. - Не будь я президентом, он бы срезался и срезался бы каждый год. И мне это тоже ясно дали понять в школе.
- А в университете! - Ельский не спрашивал, а напоминал; от своего коллеги он знал, что молодой Дикерт обладал исключительными математическими способностями.
Отец презрительно вздохнул.
- Экзамены, сударь, экзамены! Я спрашиваю, где тому свидетельства. Который уж год слышу одно и то же, и на семинаре он, мол, профессора загоняет в угол, и в Варшаве, дескать, один он сумел найти общий язык с парижским ученым, и какому-то старшему товарищу вьшравил-де докторскую диссертацию, а у самого, - глаза старика гневно сверкали, - даже и степени нет!
Он побарабанил пальцами по столу.
- Такая, видите ли, у нас с ним математика!
И ни с того ни с сего ошеломил Ельского вопросом:
- Слушайте, где он это подхватил? - Иуввдя, что Ельский не отвечает, прибавил: - Коммунизм этот.
Ельский сделал вид, что собирается с мыслями. Откуда? Да кто же знает, где Янек шастал. Из родительской гостиной он старался улизнуть, как только мог поскорее, вставал из-за стола и шел к себе, если изредка и соглашался отправиться к кому с визитом, то сидел все время молча. Говорят, однажды он заявил отцу, что именно эти светские выходы и привели его к коммунизму.
"Не впихивали бы в меня ваш свет, - сказал он, - я бы и не возненавидел его так". Но в конце концов должен же был кто-то открыть перед ним иной мир, который притянул его к себе. Кто, где, когда? В гимназические годы он жил, отгородившись ото всех, потому с такой доверчивостью и льнул к университетским товарищам. Однажды заявил, что вся математика на стороне коммунизма. Но потом уже на эту тему ни слова, то ли он ученых имел в виду, то ли саму науку. Хотя этого и представить себе невозможно.
Верно, сострил так, думал Ельский. Он иногда не прочь был пошутить, но как евнух, у которого ни с того ни с сего просыпается вдруг тяга к женщине.
- Но сын он хороший. - Непонятно было, что подтолкнуло Ельского к такому выводу.
Дикерт вскинул на него глаза, словно взвешивая, тот ли он человек, которому можно открыть тайну. И затем резко бросил:
- Никакой. Никакой он не сын. Никакой.
А госпожа Дикерт в ослеплении, свойственном женщинам, которые даже и не замечают, когда подливают масла в огонь, воскликнула:
- Не говори так!
- А я буду, - рассердился он. - Ни одного ласкового слова, ни одного доброго жеста, камень, знаете ли, камень. Да и не камень даже, - ему показалось, что в камне есть что-то живое, - вот что: машина. Камень, бог знает почему он верил в это, но верил свято, - камень, может, и вспомнит иногда гору, от которой оторвался, а машина завод, сделавший ее, - никогда. В ней ни капельки тепла, ни капельки памяти. Таков наш сын.
Тут он не позволил вмешаться жене.
- Всегда он был бессердечным. Но сначала другим подражал, своему брату, нам. И только как начал забивать голову своей математикой, тут окончательно и окаменел. Но лишь этот коммунизм убедил его в том, что так надо.
Старик заскрипел вставными зубами. Нет, такого орешка ему не разгрызть, непокорно качал он головой, а память подсовывала ему донос за доносом.
- Он бы скорее язык себе откусил, чем пришел поздравить с днем ангела.
И тут госпожа Дикерт торопливо подтянула рукав своего трикотажного черного халата, принялась быстро расстегивать пуговицы на манжете, засучила рукав по локоть, словно собиралась мыть руки, правда, только одну.
- Ну, пора о Кларысеве! - отозвался старик с иронией, но и не без удовольствия от того, что так легко догадался, о чем собирается рассказать жена.
Но и Ельский тоже знал, о чем пойдет речь. Два года назад госпожа Дикерт, спускаясь по лестнице виллы, которую они снимали на лето, упала и сломала руку. Дома в городе был один Янек, он сделал все, о чем его попросили по телефону, и отправился на вокзал узкоколейки. Там он узнал, что поезд будет через час. Так и неизвестно, то ли он беспокоился, то ли из спортивного интереса, но Янек пошел пешком. Наверняка часть пути бежал, может, и весь, он, правда, предпочитал не распространяться на эту тему и даже сказал, что кто-то его подвез. На сей счет всегда в семье спорили.
- Я вижу его, как сейчас, - вспоминала госпожа Дикерт, и ее белая обнаженная рука служила ей тут помощницей. - Вбегает он, знаете, в мою комнату, еле дышит, волосы в пыли, глаза ввалились, глубоко-глубоко, еле на ногах стоит, а сам изо всех сил старается выглядеть пободрее.
Дикерт, который всегда в этом месте возражал жене, сказал на сей раз еще более неприязненным, чем обычно, тоном: