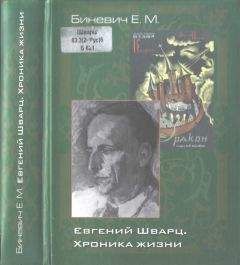А потом была среда, и Штерингас, предупредив Спиркина, на конференции отсутствовал в связи с похоронами сэра Мэттью Харпера, родственника тех самых сестёр из аэропорта, знакомых его знакомых. Перепроверять информацию о похоронах академик не стал, хотя и дёрнулся поначалу. Представил себе, не дай бог, чего случится нехорошего с молодым талантом в чужой стране. Но все же, подумал, не стоит нервничать, не имеет смысла, потому что правда слов Всеволода подтверждалась и другими источниками. Почти все лондонские газеты написали о предстоящих похоронах и о той неоценимой роли, которую сыграл старик Мэттью на посту председателя «Harper Foundation».
К удивлению Штерингаса, на церемонии прощания он снова встретился с Робертом Хоффманом. С Бобом. Тот был печален и явно удручён происходящим. Поздоровались. Боб, предваряя Севин вопрос, сразу дал знать, не отрывая глаз от гроба:
— Сэр Мэттью и его Фонд немало сделали, в частности, и для нашего института. И для меня лично. Пока я учился в Кембридже, фонд выплачивал мне стипендию, как отличнику. По программе помощи хорошо успевающим студентам, не имеющим достаточных средств. И я за это ему буду всегда благодарен. — Он указал взглядом в сторону Прис и Триш, сидящих в чёрном у гроба, на траурных стульях. — Не познакомите меня с его внучками? Хочу лично сказать слова благодарности. И за маму их заодно, миссис Нору Харпер.
После окончания процедуры Штерингас подвёл Хоффмана к Присцилле и Патриции и представил. Тот пожал обеим руки и произнёс свои скорбные, теплые, благодарственные слова.
— Приходите к нам на обед, вместе с Севой, — пригласила его Триш, — в воскресенье.
— Ждём вас, Роберт, — добавила Прис и глянула на Севу. — Не забудешь взять своего друга?
— Конечно, конечно… — пробормотал Севка и подумал, как-то странно всё получилось… И откуда же этот Боб узнал, что он, Штерингас, вообще знаком с сёстрами Харпер? Видел, как они обнялись и поцеловались ещё до церемонии? Может, оно, конечно, и так… Но всё же странно…
В четверг, на другой день, до обеда, в плане стоял доклад доктора Штерингаса из Института общей генетики Академии наук СССР, Москва. Но в итоге всё получилось не по плану, график дня существенно разъехался, потому что имело место чепэ. Про обед участники конференции просто забыли, поскольку вопросы, посыпавшиеся из зала, после того как доктор Штерингас закончил свой доклад и получил одиннадцать минут непрерывных аплодисментов, были нескончаемы и разносторонни. В результате доклады, назначенные на четверг, так же как и обеденное время, сместились на два с половиной часа. Однако никто об этом не пожалел. Все хотели обсуждать услышанное ещё и ещё. Спиркин сидел тихо, опасаясь, что, как представитель того же русского института, ненароком будет вовлечён в дискуссию и придётся невольно обанкротить свой высокий ранг. Но его не трогали, как будто его не было совсем. Такое положение дел Севкиного шефа вполне устраивало, и он сиял, ощущая себя частью хорошо приготовленного сюрприза. Уже потом, по возвращении домой, он доложит Дубинину, как они утёрли нос всем этим, в Лондоне. И заодно изложит «свою» идею о Роберте Хоффмане, из Лондонского института селекции и генетики, учёном с нужными связями, готовом к научному сотрудничеству и прохождению стажировки в лаборатории Штерингаса.
После того как страсти улеглись и возбужденные Севкиным докладом участники конференции стали постепенно утекать в сторону позднего обеда, к Штерингасу подошёл Кристиан Шилклопер, чтобы лично пожать Севке руку. Сказал, давно не наблюдал такой отточенной системы доказательств и оригинального подхода к теме. Пошутил, что улетит теперь окрылённый, потому что мир отныне благодаря русским не останется без хлеба, и в этом его убедил лично доктор Штерингас.
В общем, четверг удался, и это понимали все, включая самого Севку. Оставшиеся три дня вокруг него роился разный научный люд. Теперь он был свой, и не было в этом ни у кого ни малейшего сомнения. Просили передать привет академику Дубинину, интересовались планами на будущее.
— Ну что, гоголем, небось, ходишь? — добродушно, но с всё же с долей едва прикрытой зависти вопрошал Севку Спиркин. — Ничего, привыкай, придёт время, сам форумы открывать будешь, а не четвергов этих своих дожидаться.
— Мне б время выкроить по магазинам пробежать, а то Лондона, по сути, не видел. И девушке своей что-то купить бы, а? В воскресенье. Не возражаете, если оставлю вас? — именно такого уважительного разрешения в ответ на просквозившую иронию испросил он у своего руководителя, выкроив правильный момент.
Спиркин прикинул и возражать не стал. План, правда, у Севы был другой. С утра — Национальный музей, затем экскурсия по городу, а ближе к вечеру, соединясь с Бобом на Трафальгарской площади, — в гости, на обед, на Карнеби-стрит, к будущей тёще, дочери жижинского пастуха Джона-Ивана, Присцилле Иконниковой-Харпер.
Всё получилось и всё понравилось. И дом сестёр, и обед в английском духе, и единственный общий гость, Боб Хоффман, оказавшийся после нескольких глотков джина искромётно-весёлым и неожиданно остроумным собеседником. Потом был чай, тоже непривычного вкуса, двух сортов, с кардамоном и жасмином, и десерт в виде творожного мусса под вишнёвым сиропом.
В понедельник Спиркин с Севой улетели в Москву, а через три недели в иностранный отдел Академии наук пришло письмо из института, в котором трудился Боб, с предложением о сотрудничестве, «…которое в предварительном порядке господин Роберт Хоффман имел честь обсудить с господином Спиркиным…». Письмо перекинули к Дубинину с резолюций: «На ваше рассмотрение. Но только в случае несения всех расходов английской стороной».
Таким образом, ещё через пару месяцев с небольшим, после того как НикПет, подготовленный Спиркиным, собственной рукой чиркнул «Согласен» на спущенном из иностранного отдела документе, учёный-генетик из Лондонского института селекции и генетики Роберт Хоффман прибыл в Москву, чтобы приступить к работе в лаборатории, руководимой кандидатом биологических наук Всеволодом Штерингасом. Этот его приезд пришёлся на тридцатое декабря тысяча девятьсот шестьдесят седьмого, за день до Нового года. Извещённый заранее Севка лично встречал нового сотрудника в аэропорту Шереметьево на собственной старенькой «Победе». Всякие там оформления, регистрации в ОВИР, поселение на первых порах в общежитии МГУ и прочие несрочные формальности оставили на потом. Для начала прямиком отправились на Чистые пруды, где их ждала Ницца. Сева вёл машину через центр специально, чтобы попутно хвастануть Белокаменной. Боб всматривался через «победное» окно в эту странную московскую архитектуру, в которой старое, почти убитое, но всё ещё ласкающее взор так нелепо сцепилось с новым, чемоданно-бетонным, чтобы в итоге сделаться никаким. Попутно удивлялся столь невыразительной предновогодней толпе преимущественно серого цвета. Сева отшучивался:
— Не спешите с выводами, коллега, не стоит быть столь категоричным. Вот доработаем наши красители, весь мир перекрасим. И москвичей заодно, чтобы они вас своим видом не пугали.
В это же время Ницца, пытаясь точно следовать телефонному совету Таисии Леонтьевны, уже усердно расплавляла сырок «Дружба» в грибном супе, приготовленном по такому случаю впервые в жизни, — для дополнительного сливочного вкуса, поскольку грибы были так себе, не белые, но зато сырок в этом качестве чувствительно расцвечивал несовершенную грибную гамму.
В эту же самую минуту, когда последний шматок «Дружбы» невозвратно растаял в кипящем грибном вареве, в одной из клиник Лондона появился на свет ребёнок, девочка, дочка русского художника Юлия Шварца и его жены, английской гражданки Патриции Харпер-Шварц. Маленькое, беззащитное, орущее и очень красивое существо, появления на свет которого ждали с десяток лет. С именем ребёнка вопрос не возник, потому что решён он был давно, с момента беременности Триш.
— Будет внучка — назовём Нора, — слегка нетрезво сообщил семейству Шварц будущий дедушка Джон. — Мальчика называйте сами, не имеет значения, — слова постарался произнести так, чтобы уяснили, что обсуждать эту тему не намерен. Не имеет смысла. Да и нужды такой не было, обсуждать. Оба сразу согласились, заверив, что другого не хотели и сами.
Ближайшие двое суток провели вместе, в его квартире на Чистопрудном бульваре, Боб, Сева и Ницца. Второго января ненадолго заехала Параша, передачку доставила от Миры Борисовны, холодца с хреном, а ещё мороженой антоновки, но это уже от себя лично. После обеда Ницца, в соревновательном новогоднем угаре, смоталась к бабушке, Таисии Леонтьевне, за питательной поддержкой. Та наготовила своего, привычного. Вернулась с капустными пирожками, печёночным паштетом, селёдочным фаршем и институтской подругой Кирой Богомаз. Под такое дело пришлось снова выпивать и дополнительно знакомиться, чему Боб искренне обрадовался, потому такое неплановое расширение гостевого пространства увеличивало круг его московских знакомых ровно на одну треть. В общем, заселиться в общежитие МГУ у Боба получилось лишь к вечеру третьего января, а приступить к работе в лаборатории удалось лишь четвёртого, после обеда. Попервоначалу ужаснулся условиям: лаборантов категорически не хватает, препаратов тоже, в помещении сквозняки, окна заклеены бумажными лентами, чтобы не дуло из щелей. Для того чтобы запереть дверь лаборатории на ключ, нужно сперва крепко вжать её плечом в проём, после чего резко стукнуть ботинком по нижней части. Ну и так далее, включая зловонные туалеты на этажах, раковины с жёлтыми подтёками, битый кафель на стенах, никогда не знавший чистки, и отсутствие горячей воды. И это академический институт! Один из ведущих. Отметил на другой день, мол, могу себе представить, каких бы успехов достигла ваша наука, если бы дать вашим институтам комфортные помещения, исправные туалеты, горячую воду и чистые препараты. Революцию могли бы сделать в генетике! Научный переворот каждую среду, не реже!