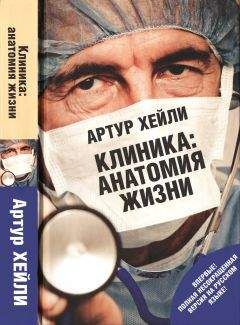Пирсон поднял голову и взглянул на Коулмена.
— Сколько времени уже прошло? — спросил он.
Коулмен посмотрел на часы:
— Больше часа.
— Я им позвоню. — Пирсон порывисто схватился за телефонную трубку, но потом заколебался и отнял руку. — Нет, — сказал он, — лучше не буду звонить.
Время нестерпимо долго тянулось и для Джона Александера. Час назад он вернулся в лабораторию из палаты Элизабет и попытался заняться работой, но сосредоточиться не смог и оставил попытки, чтобы не наделать ошибок. Посидев некоторое время, он снова взял в руку пробирку, но подошедший Баннистер отобрал ее у Александера и, посмотрев в лист назначений, сказал:
— Я сам это сделаю.
Александер вяло запротестовал, но Баннистер не желал слушать никаких возражений.
— Парень, оставь это мне. Почему бы тебе не подняться наверх, к жене?
— Спасибо, но я лучше останусь здесь. Доктор Коулмен сказал, что как только ему позвонят, он придет и все мне скажет. — Александер, в который уже раз, посмотрел на настенные часы и произнес сдавленным голосом: — Теперь, думаю, осталось недолго ждать.
— Да, — подтвердил Баннистер и отвел взгляд. — Я тоже так думаю.
Элизабет Александер была в палате одна. Она лежала с открытыми глазами, откинувшись на подушки, когда вошла сестра Уилдинг.
— Какие новости? — спросила Элизабет.
Пожилая седая Уилдинг в ответ покачала головой.
— Как только узнаю, сразу скажу. — Она поставила на тумбочку принесенный ею стакан апельсинового сока и предложила: — Я могу побыть с тобой немного, если хочешь.
— Да, пожалуйста. — Элизабет слабо улыбнулась, а медсестра пододвинула к кровати стул и села. У нее страшно устали ноги, и ей хотелось немного отдохнуть. В последнее время ноги стали сильно болеть, и она понимала, что скоро ей придется уйти с работы. Во всяком случае, морально она уже была к этому готова.
Но Уилдинг очень хотелось что-нибудь сделать для этой приятной молодой пары. Молодые люди понравились ей с самого начала. Эти двое — муж и жена — представлялись ей почти детьми. Когда она ухаживала за этой девочкой, ей казалось, что она ухаживает за собственной дочерью. Уилдинг всегда хотелось иметь дочь, но судьба распорядилась иначе. Ну не глупость ли проявлять такую сентиментальность на склоне лет — это с ее-то сестринским опытом?
— О чем ты думала, когда я вошла в палату? — спросила она у Элизабет.
— Я думала о детях, как горошинки рассыпавшихся по зеленому лугу, детях, играющих на солнышке, — мечтательно произнесла Элизабет. — Так бывало у нас летом в Индиане, когда я была совсем маленькой. Даже тогда я думала о том, что у меня будут дети и я буду сидеть и смотреть, как они резвятся в траве под ярким солнцем.
— С детьми происходят странные вещи, — сказала Уилдинг. — Часто все оказывается совсем не так, как мечтают родители. У меня есть сын, ты знаешь. Теперь он взрослый мужчина.
— Нет, я не знаю, — сказала Элизабет.
— Пойми меня правильно, — продолжала Уилдинг. — Он отличный человек, морской офицер. Больше месяца назад он женился. Я получила письмо, в котором он сообщил о своей свадьбе.
Элизабет стало интересно: каково это — родить сына, а потом получить письмо о его свадьбе?
— Я всегда чувствовала, что мы плохо понимаем друг друга, — говорила между тем Уилдинг. — Думаю, это моя вина. Развод, сплошная беспросветная работа. Я не смогла дать ему ощущение дома.
— Но вы же видитесь с ним иногда? — спросила Элизабет. — Я надеюсь, что скоро у вас будут внуки.
— Я много о них мечтала, — сказала Уилдинг. — Представляла, как это хорошо — иметь внуков. Жить поблизости от сына, ходить нянчить детишек и все такое прочее.
— Но почему бы вам не осуществить это в будущем? — спросила Элизабет.
Уилдинг грустно покачала головой:
— Думаю, что когда я приеду, то встречусь с ними как с незнакомцами. Да и не получится у меня часто их навещать или поселиться поблизости. Сын служит на Гавайях, они с женой уехали туда на прошлой неделе. — Она помолчала, потом добавила, изо всех сил стараясь оправдать сына: — Он собирался приехать с женой, но в последний момент что-то случилось, и они не смогли.
Сестра Уилдинг встала и направилась к выходу. В дверях она обернулась и сказала:
— Пейте ваш сок, миссис Александер. Как только что-то узнаю, я приду.
О’Доннелл вспотел, и медсестра марлевым тампоном промокнула ему лоб. Прошло пять минут с тех пор, как он начал искусственное дыхание, но ребенок в его руках не реагировал ни на какие усилия. Большие пальцы О’Доннелла упирались в грудную клетку младенца, остальными пальцами он обхватил его спину. Ребенок был так мал, что руки перекрывали друг друга. Шипел кислород. О’Доннелл работал очень осторожно, понимая, какие у него в руках крошечные и нежные косточки. Он нежно сжимал и разжимал грудь новорожденного, чтобы помочь маленьким усталым легким вдохнуть живительный газ. Ему так хотелось, чтобы ребенок жил. Если он умрет, это будет означать, что клиника Трех Графств постыдно не справилась со своей основной и главной задачей — помогать больным и слабым. Этот младенец не получил надлежащей помощи, с ним обошлись плохо. Халатность победила добросовестность. И теперь О’Доннелл пытался достучаться до маленького человека, беспомощно лежащего у него в руках, сквозь кончики пальцев внушить свое страстное желание его слабеющему сердечку. «Мы были так тебе нужны, но мы подвели и обманули тебя. Мы были самоуверенны и небрежны. Но позволь нам все же помочь тебе. Иногда мы это умеем, мы не всегда бываем беспомощными. Не суди нас так строго. В этом мире много невежества и безумия, предрассудков и слепоты — мы уже показали их тебе. Но есть и многое другое — теплое, настоящее, доброе, — ради чего стоит жить. Дыши! Давай сделаем это вместе. Это так просто и так важно». Пальцы О’Доннелла ритмично двигались — вверх-вниз, вверх-вниз…
Прошло еще пять минут, интерн приложил фонендоскоп к грудной клетке и стал слушать. Потом он выпрямился, поднял голову и посмотрел О’Доннеллу в глаза. О’Доннелл разжал руки, понимая, что все усилия бесполезны.
— Он умер… — тихо сказал он, обернувшись к Дорнбергеру.
Их взгляды встретились, и они поняли, что испытывают одни и те же чувства.
О’Доннелла охватила раскаленная добела ярость. Он порывисто снял маску и шапочку, сорвал с рук перчатки, швырнул их на пол и сказал Дорнбергеру:
— Идемте. — Потом он обернулся к интерну и хрипло произнес: — Если меня будут спрашивать, скажите, я у доктора Пирсона.
В кабинете резко и громко зазвонил телефон. Пирсон машинально протянул руку к трубке, но затем, побледнев и изменившись в лице, отдернул ее.
— Ответьте, — попросил он Коулмена.
Пока Коулмен шел к аппарату, раздался второй, нетерпеливый, требовательный звонок.
— Доктор Коулмен слушает. — Некоторое время он молчал, потом сказал «Спасибо» и положил трубку. — Ребенок только что умер, — обернулся он к Пирсону.
Тот опустил глаза. Съежившийся, уменьшившийся в размерах Пирсон неподвижно сидел в кресле. Его лицо мгновенно постарело. Он был разбит и уничтожен.
— Я пойду в лабораторию, надо поговорить с Джоном, — тихо сказал Коулмен.
Ответа не последовало. Коулмен вышел из кабинета, но старик продолжал сидеть за столом, уставив взгляд в пустоту и погрузившись в известные только ему одному мысли.
Когда Дэвид Коулмен вошел в лабораторию, Карла Баннистера там не было. Джон Александер неподвижно сидел на стуле у лабораторного стола. Когда Коулмен почти неслышно подошел к нему, Александер некоторое время сидел молча, потом спросил не оборачиваясь:
— Все… кончилось?
Не отвечая, Коулмен положил на плечо Джона руку.
— Он умер, да? — едва слышно проговорил Александер.
— Да, Джон, — мягко ответил Коулмен, — он умер. Мне очень жаль.
Александер медленно обернулся. Лицо его мучительно дергалось, по щекам струились слезы.
— Почему, доктор Коулмен, почему?
С трудом подыскивая слова, Коулмен попытался ответить:
— Ваш ребенок родился недоношенным и очень слабым, Джон. Шансы выжить у него были бы невелики, даже если бы не было… всего остального.
Глядя Коулмену прямо в глаза, Александер сказал:
— Он мог выжить.
Это был момент истины, от которой Коулмен не имел права уклониться.
— Да, — согласился он. — Ребенок мог выжить.
Джон Александер встал и, приблизившись к Коулмену, посмотрел ему прямо в глаза.
— Как это могло случиться в клинике… при врачах?
— Джон, — ответил Коулмен, — сейчас у меня нет для тебя ответа… Я не могу пока ничего ответить и себе.
Александер оцепенело кивнул, потом достал из кармана платок, вытер лицо и спокойно произнес: