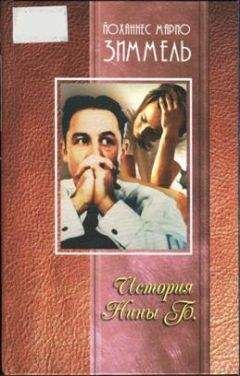— Доброе утро, — сказал я. — Я хотел бы снять со своего счета пять тысяч марок.
Служащий достал блокнот с чеками и выписал чек на пять тысяч марок, спросив:
— Номер вашего счета?
Я ответил:
— Тридцать семь восемнадцать семь четыре.
Он записал номер счета и протянул мне блокнот:
— Распишитесь, пожалуйста.
Я расписался: «Роберт Хольден». Я расписался не так, как обычно, но не слишком по-другому. Моя нынешняя роспись была очень похожа на мою обычную. Служащий вырвал чек из блокнота, к задней стороне чека приклеил половину контрольной квитанции, другую половину он вручил мне. Обе половины имели одни и те же контрольные цифры: 56745. Я поблагодарил и прошел в другую сторону зала, где другой служащий оформлял выдачу и прием вкладов. Перед ним было большое табло, на котором все время появлялись новые контрольные цифры. Когда чеки приходили к нему из бухгалтерии, кассир нажимал в своей кабине на кнопку и подзывал клиента с контрольными цифрами на его квитанции, соответствующими цифрам на табло. Я ждал шесть минут, пока на табло не загорелся мой номер:
56745 / КАССА 5
Я подошел к пятой кассе и улыбнулся кассиру. Кассир улыбнулся мне и спросил:
— Сколько?
— Пять тысяч.
— Какими купюрами вы желаете?
— Сотенными.
Он выдал мне пятьдесят стомарочных купюр, я положил деньги в карман и покинул зал. При этом я забыл, что часом раньше переоделся в душевой Центрального вокзала. Сейчас на мне был дешевый черный костюм с белыми пуговицами, который у меня был для подобных целей. Я вернулся на вокзал, переоделся и опять сдал свой чемодан. Затем я поехал на почтамт и оформил перевод на пять тысяч марок. Получатель — Петер Ромберг. Я написал вымышленное имя отправителя, номер несуществующего дома, улицу, которой не было.
На следующий день я получил из банка справку, из которой следовало, что я лично снял со своего счета пять тысяч марок. Потом я позвонил доктору Цорну и сказал ему, что мне надо с ним срочно поговорить.
— У меня много дел… Нельзя ли завтра?
— Нет, мне нужно сейчас же!
— С вами случилось что-то серьезное?
— Разумеется!
— Приезжайте сейчас, — сказал он.
Справка из банка лежала между нами на письменном столе Цорна.
— Здесь написано, что вчера в банке я снял пять тысяч марок, — сказал я. — Но я не был в банке! — Я перешел на крик. — И не снимал я пять тысяч марок!
— Не кричите! И не волнуйтесь вы так!
— Легко сказать: «не кричите»! Это мои деньги! Этот наглец теперь каждый раз такое будет проделывать! Кто знает, может, он уже опять там!
— Но он же должен знать номер вашего счета!
— Посмотрите сюда, на справку!
— И должен суметь подделать вашу подпись!
— Вы очень остроумны, господин доктор! — кричал я. — Мне все равно, обратится ли в полицию господин Бруммер, если это касается лично его! Но теперь это касается меня, и теперь я требую полицию, я, я, я!
— Ни в коем случае!
— Пойдемте вместе сейчас же в банк! Спросим у служащих, что происходило, как этот тип выглядел, во что был одет, — я желаю знать!
— Об этом не может быть и речи.
— Почему?
— Потому что в банке тут же запросят полицию.
— А кто мне вернет мои деньги?
Он взглянул молча на меня. Потом встал:
— Подождите одну минуточку.
Он вышел из комнаты. Вернулся он через пять минут и был очень нервным.
— Господин Хольден, я сейчас говорил по телефону с господином Бруммером. Мы возместим вам ущерб. Я выпишу вам чек на пять тысяч марок — при условии, что вы будете молчать об этом деле.
— А если это повторится?
— Это не повторится. Мы сейчас едем в банк. Номер вашего счета мы изменим. Отныне все бумаги и чеки будут заверяться двумя подписями — вашей и моей.
Итак, совсем не сложно оказалось сделать так, чтобы Юлиус Мария Бруммер за оздоровительную поездку маленькой Микки Ромберг заплатил немного больше!
Казалось, что эта банковская афера замедлила выздоровление Бруммера, и поэтому он должен был еще оставаться в клинике. В середине января начался сильный снегопад, изо дня в день, из часа в час падали снежинки, земля все больше и больше покрывалась белоснежным одеялом. Движение на железных дорогах срывалось, автобаны на многих трассах стали непроезжими, самолеты бездействовали.
Почтовая связь с Мальоркой временно прервалась, поэтому я чаще говорил с Ниной по телефону. Она чувствовала себя несчастной и была очень раздраженной:
— Я хочу вернуться домой, Роберт. Как долго я еще должна здесь оставаться? Когда я его об этом спрашиваю, он всегда находит отговорку. Это уже чересчур! Мне нужно улететь. Чувствую себя неважно. Я хочу вернуться домой!
— Ты должна еще немного подождать, Нина…
— А смысл? Есть в этом хоть какой-нибудь смысл?
— Пожалуйста, положись на меня.
— Я тебя люблю, Роберт. И полагаюсь на тебя. Но все равно это невыносимо!
Двадцатого февраля Юлиус Мария Бруммер выписался из клиники. Я транспортировал его из клиники домой, завернутого в теплое одеяло. Ему было предписано еще пять дней находиться дома, а после этого врачи разрешили ему прогулки по заснеженному парку — полчаса до обеда и полчаса после обеда. Он похудел, костюм на нем висел, как на огородном пугале. Осторожными шагами пожилого мужчины он безрадостно и неуверенно протаптывал снег. По дороге он тяжело на меня опирался. Мы брели вдоль берега замерзшего озера, когда он сказал:
— Я разговаривал с женой. Она завтра возвращается. Встретим ее в аэропорту.
В сердце у меня кольнуло, но я ответил:
— Конечно, господин Бруммер.
— Я все-таки признался ей по телефону, что со мной было. Поэтому, увидев меня, она не упадет в обморок. Хотя на самом деле она жуткая трусиха. Но я ей сказал, что теперь уже все хорошо. И она успокоилась. Между прочим, Хольден, через два-три дня мы едем в Баден-Баден. Мне надо подлечиться.
— Внимание! Самолет Западногерманских авиалиний рейсом из Пальма-де-Мальорки прибывает на посадку, — сообщил бодрый голос из громкоговорителя. Я сидел рядом с Бруммером в ресторане дюссельдорфского аэропорта. Он отказался снять свою шубу, несмотря на то что в помещении было тепло. Ему теперь постоянно было холодно.
Снаружи с затянутых серым цветом небес на заснеженное летное поле опускался четырехмоторный самолет. Он приземлился, образовав на снегу черную тень и выбросив вперед шасси с обеих сторон массивных, серебристых, запорошенных снегом крыльев.
День был пасмурный. Пока самолет громадным корпусом прокладывал колею и катился на нас, я вспомнил тот ненастный вечер прошлого лета, когда мы с Ниной сидели здесь же в ожидании Тони Ворма, который так и не появился. Этим же вечером, чуть позже, я первый раз поцеловал Нину. С того времени много всего случилось, слишком много. А сейчас Нина возвращается. Серебристый самолет, который надвигается на меня, приносит ее мне обратно.
А мне ли?
Пока не мне, пока еще не мне. Но теперь немного осталось до того, когда мы сможем быть вместе, ничего не боясь и до самого конца.
— Идемте, — сказал Бруммер, — поддерживайте меня.
Я вел полного мужчину в темных очках через зал прилета до самых перил среднего выхода. Я все время заслонял его, мою жертву, к которой был так крепко привязан, что он не мог ни ходить без моей помощи, ни стоять без моей поддержки. Я передал Бруммеру букет красных роз, который до этого держал сам, чтобы он поднес его, как только появится Нина.
Один за другим через турникеты выходили пассажиры рейса из Пальма-де-Мальорки, они смеялись и веселились. Встречающие махали руками и приветствовали друзей громкими криками. Здесь, у среднего выхода, царила радостная обстановка. И вот появилась Нина. Она была в сером персидском пальто, которое ей на Мальорку отправили посылкой, в черных ботинках на высоких каблуках, без украшений и головного убора. Светлые волосы свободно лежали на черном меховом воротнике. Лицо Нины сильно загорело, а я почувствовал сердцебиение, когда увидел, что она не накрашена, вообще не накрашена.
Этим летом, которое так быстро пролетело и казалось теперь таким далеким, я ей сказал, что мне нравится, когда она без косметики, и что не позволю ей краситься, если мы будем жить вместе. И в день своего возвращения она не накрасилась, что в действительности означало «я люблю тебя».
Бруммер обнял Нину и поцеловал ее в обе щеки. Через его плечо она посмотрела на меня. Ее глаза лихорадочно сверкнули. Тридцать три дня мы не виделись, не прикасались друг к другу. Глаза ее блестели, и я знал, о чем она подумала, потому что я подумал о том же. Кровь ударила мне в висок, каждая клетка моего тела тосковала по ней, по ней, и по ее глазам я увидел, что она чувствует то же самое.