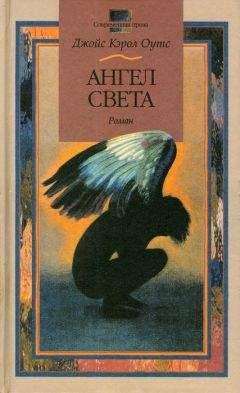— Утром ты расскажешь мне о своей сестре. Ты сможешь даже позвонить ей по телефону, если захочешь.
— Она тоже очень несчастна. Это ко мне от нее перешло… как зараза, — говорит Оуэн. — Но она права. Она права.
— Мое обращение началось, собственно, за много лет до Хартума, — мягко произносит Мэй. Голос его звучит тихо, ровно, успокаивающе, мелодично. Словно музыка по радио — еще и еще. Теперь сирена умолкла, и Оуэну не на чем больше сосредоточиться. — Мой отец, Джордж М. Мэй, шесть лет был послом в Аргентине — в тридцатые годы, — это было еще до Перона, так давно… и хотя я был в ту пору совсем мальчишкой и, как большинство посольских детей, отделен стеной от аргентинского общества, тем не менее я знал о спорадически вспыхивавших бунтах… восстаниях… о «партизанской войне», что, конечно, было самоубийством, поскольку за этим тотчас следовали жесточайшие репрессии. Siempre la violencia[38]. Когда мне исполнилось десять лет, отец попросил, чтобы его перевели в другую часть света — более цивилизованную! — и госдепартамент направил его в Канаду, где он чуть не умер от скуки; мы же с мамой, поскольку мы были так близко от дома, большую часть времени проводили в Вашингтоне. Так внезапно окончилась моя жизнь в посольствах. Но мне кажется, я хорошо запомнил аргентинских революционеров, я не могу не помнить их мужества, их смелости, их физической силы… их огромной воли… которая и по сей день живет в монтаньерос,[39] хотя у меня нет с ними контактов, даже косвенных. Таким образом, мое обращение было заранее подготовлено. Оно спало во мне. Ты называешь нас «террористами», а надо было бы сказать: «мученики». Ты обвиняешь нас в том, что мы пытаемся дать простой ответ на сложные вопросы жизни, тогда как на самом деле мы не предлагаем простых решений, мы не предлагаем решений вообще.
— Никаких решений вообще… — Оуэн произносит это шепотом, хрипло и неуверенно… — Никаких решений вообще, Господи, да, да, никаких решений вообще…
На него наваливается усталость, но это даже приятно. Он видит солдат в форме на большущем холме из человеческих костей, он слышит легкий дразнящий женский смех, он снова видит мальчика, пробегающего мимо спальни матери и не приостанавливающегося, чтобы заглянуть туда, а потом этот мальчик вдруг оказывается в подвале своего дома, он роется в грязном белье, вытаскивает белые бумажные трусики… шелковистую бежевую ночную рубашку…
Мэй медленно произносит:
— Мне всегда казалось до неловкости буржуазным и недостойным ждать каких-то решений — это очень похоже на презренный склад ума, доискивающийся причин.
— Да, — говорит, беззвучно рассмеявшись, Оуэн, — да, вы правы.
Волна усталости захлестывает его сильнее. Никогда еще он не чувствовал себя таким выпотрошенным, и, однако же, это ему даже приятно, ибо он в безопасности, о нем позаботятся, его поймут. Ульрих Мэй понижает голос, говорит мягче, ласковее — это уже колыбельная, литания. Ох, только не умолкай, молит его Оуэн, не покидай меня, я так одинок, мне так страшно.
С чувством облегчения он ощущает пальцы Мэя на своих волосах, они ласково поглаживают, по-отечески, неназойливо… Ох, не умолкай же, не умолкай.
НА КРАСНОМ ГЛИНЯНОМ КОРТЕ
Биттерфелдское озеро Июль 1967
Мори Хэллек и Ник Мартене в одно из воскресений, под вечер, играют в теннис на новом красном глиняном корте Хэллеков. Глина — цвета высохшей и выцветшей крови, и резиновые туфли мужчин поднимают с поверхности корта испуганные ее облачка.
— Вот это класс, вот это стиль, — не раз вырывается у Ника по поводу нового корта. — Вот это вещь!
Старый корт был асфальтовый. За многие годы его запустили: появились трещины, сорняки, вздутия, подгнившая сетка провисла. В этом году Хэллеки — «молодые Хэллеки», иными словами: Мори и Изабелла — решили срыть старый корт и построить новый. Изабелла придумала сделать его из красной глины, хотя она редко играет в теннис и находит игру скучной.
— Ого, ну и красотища, — объявил Ник, впервые увидев корт и с улыбкой оглядывая его. Затем вышел на корт и сильно топнул по утрамбованной глине. — А что здесь было раньше — другой корт?.. Что-то не помню.
Долгий, полный истомы летний уик-энд. На Биттерфелдском озере ночуют несколько гостей, гости приглашены и к ужину. Изабелла наверху в доме дает указания поварихе — славной, но глуховатой женщине лет шестидесяти с небольшим, похожей — если Изабелла этого не придумала — на индианку; во всяком случае, она неотъемлемая часть этого загородного дома, много лет была в услужении у старших Хэллеков, и ее еще года два-три не «отпустишь». «Когда ты вошла в такую семью, как Хэллеки, — говорила Изабелла своим подружкам, — тут уж приходится быть настоящим дипломатом: никогда не знаешь, с которым из их «даров» позволительно расстаться. И весь ужас в том, что через какое-то время можно ведь и забыть».
Ник в мятых белых шортах, спортивной рубашке и синих теннисных туфлях, он без носков, волосы, еще мокрые после плавания, кажутся темно-каштановыми. Ник лениво отбивает подачи Мори, которые даже маленькому ребенку показались бы смешными и невероятно старательными. Время от времени Ник восклицает: «Неплохо!» — и Мори пожимает плечами, довольный и смущенный. Но сам Ник на сей раз играет небрежно, машет наугад и лишь изредка бьет по мячу с воодушевлением. После колледжа он еще несколько лет поддерживал форму в теннисе, но постепенно забросил игру. Хотя они с Джун вступили в клуб с закрытым кортом в Бостоне — и притом клуб шикарный, — ему всегда трудно найти время для игры… Он работает так много, так отчаянно много эти последние десять лет.
— Дерьмо, — говорит он, посылая один из высоких легких мячей Мори в сетку, и тут же, спохватившись, весело кричит: — Молодец! Здорово! Твоя игра!
— Разве это была хорошая подача? — с сомнением спрашивает Мори. — Мне не кажется.
— В порядке, — говорит Ник. — Здорово. Поехали.
— А вы как считаете? — хмуря лоб, спрашивает Мори у детей. — По-моему, Ник великодушничает, мне, право, не кажется…
— Да ладно, — говорит со смехом Ник, — давай меняться местами.
Итак, они меняются местами, и зеленый мячик летает туда и сюда, иногда удар очень точный, иногда — нет, и Ник делает мелкие глупые ошибки: ударяет по мячу, не дав ему опуститься достаточно низко, не трудится присесть, неверно определяет расстояние, неверно определяет силу удара Мори — и Мори, точно мальчишка, восторженно, изумленно смеется всякий раз, как зарабатывает очко.
Вскоре становится ясно, что Мори Хэллек, по традиции умеющий красиво проигрывать, совсем не умеет выигрывать — он просто невежлив: должно быть, у него совсем нет в этом опыта.
И Ник внушает себе: успокойся, хватит дурака валять, бей так, чтоб каждый удар был зачтен тебе и в порядке эксперимента он применяет некоторые приемы, которыми не пользовался почти десять лет; и мяч порой падает точно в рассчитанное место, и бедняге Мори Хэллеку в жизни его не отбить: даже если он и успевает взмахнуть ракеткой, мяч так отчаянно крутится, что наверняка вылетит в аут; порой же мяч ударяется в сетку с такой маниакальной силой, что это выглядит комично.
Когда же Мори удается отбить трудный мяч, Ника это невольно ошарашивает, он даже чувствует себя слегка оскорбленным, словно налицо мошенничество, словно с ним сыграли злую шутку, и он еле удерживается, чтобы изо всей силы не ударить по мячу… ведь, в конце-то концов, это только игра… всего лишь игра… он, право, в восторге от того, что Мори сумел с ним так поквитаться… он кричит: «Здорово! Отлично! Держись так!» — и начинает играть еще резче, представляя себе, как он выглядит на корте, как он грациозен, как легок, какой у него стиль по сравнению с Мори, который из сил выбивается, и тут что-то вдруг выходит не так… какая-то дурацкая, идиотская ошибка… и хоть он и выигрывает, но это же дешевка… и что о нем думает его маленькая аудитория, как зрители оценивают его, Ника Мартенса, их хоть сколько-нибудь волнует, что он столько вкладывает в каждый удар или что солнце светит ему прямо в глаза и он вынужден все время щуриться?.. И где же Изабелла?
— Ну, с меня хватит, — рассмеявшись, говорит Мори.
— Э нет, — говорит Ник, — твоя подача.
Двадцать человек званы на ужин, двадцать два — двадцать три; Блондхеймы и Эйвери приедут с озера Саранак, из пятисотакрового поместья Блондхеймов, и, возможно, привезут с собой еще нескольких гостей… да еще Мартенсы и Силберы, приехавшие на весь уик-энд, — Изабелла считает на пальцах: двадцать шесть, двадцать семь. Волосы ее, стянутые назад, перехвачены красным шарфом — это модно и выглядит не нарочито. На ней простое темное гладкое платье с разрезами до середины бедра. Она не думает о мужчинах, играющих в теннис; она в этот момент не думает даже о Нике.