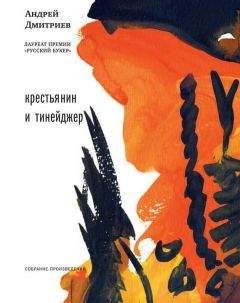И Панюков не то чтоб начал понимать, что там ему выкрикивает Вова этими новыми словами, но начал примечать: предвестьем этих выкриков всегда бывает страх в его глазах, ребячливый и вороватый, точно такой, с каким он, Вова, в детстве врал, будто у него тянет живот, когда отказывался ехать в школу. Он этими словами словно заклинал страх, он словно гнал его прочь, совсем как бабы из Селихнова, пойдя по ягоды и безнадежно заблудившись, прочь гонят лешего. Страх тенью набегал на Вовины глаза по десять раз на дню, и Панюков однажды попытался выведать у Вовы, чего он так боится.
Он начал осторожно и издалека: «Знаешь, как наши бабы гонят лешего, когда он их в черную чащу заведет и водит их кругами, так водит, что им не найти дороги?».
«Вау! — ответил Вова. — Не знал я, что у вас завелся леший».
«Ты слушай. Соберутся в кучу на полянке, все догола разденутся и встанут во все стороны: кто задом, а кто срамом, кто — титьками вперед, кто — враскоряку, тут главное, чтоб неприличнее, чтобы стыдней до невозможности; еще слова ему кричат, какие попаскуднее, и голосами самыми противными. Бедняга леший в страшном ужасе ускакивает к себе в дупло или в болото, а наши бабы одеваются спокойно и запросто выходят на Селихново, будто и вовсе не плутали».
Вова не поверил: «Что может лешего испугать в голой бабе? — Потом спросил: — Чего-то я не догоняю: зачем ты меня грузишь этим лешим?».
«Затем, что ты все время какого-то московского лешего пугаешь, когда ты говоришь словами, которых я не понимаю».
Вова обиделся: «И никого я не пугаю. И нигде я не плутаю. И слова эти — не мои; ими молодые говорят. Молодых на всех местах развелось, будто опят в хороший год; не продерешься. Хочешь быть в деле — будь с ними, не спорь с ними и говори с ними по-ихнему. — Вова значительно вздохнул и вдруг спросил: — Про наших баб и лешего тебе тут кто рассказывал? Неужто твоя Саня?..».
…Из-под колес идущих впереди грузовиков взмывала, клубясь, пыль, и Панюков заметил вслух, что до Пытавина дождь не дошел, на что водитель Стешкин поленился отвечать. УАЗ тряхнуло и еще тряхнуло; Стешкин выругался и запоздало сбросил скорость, потом достал из пачки сигарету, собрался снова закурить, но, искоса поймав злой взгляд Панюкова, передумал.
А Панюков был зол не на него — он злился, как всегда, на Вову: «…Не Саня мне про баб и лешего рассказывала, мне еще мать про них рассказывала, только велела, чтобы я тебе не рассказал: боялась, ты за бабами однажды в лес увяжешься, чтобы там с ними заблудиться и потом подглядывать… И нечего тебе на молодых валить; тебе и самому-то — сколько было? Мне было тридцать три, значит, тебе — тридцать один: куда еще моложе! Ты просто подыхал от какого-то страха, я помню это очень хорошо».
Из решетчатых ворот пытавинской «Автоколонны № 1120» медленно выполз автофургон с надписью «ЛЮДИ» над кабиной и, кособоко поворачивая, перекрыл проезжую часть. Стешкин притормозил, встал и, пока автофургон выруливал, — поцыкивал на него, поторапливая, и бормотал нетерпеливо:
— Ну, ты, давай, давай…
Автофургон, наконец, повернулся к ним задним бортом (там тоже была надпись «люди») и, выпустив из-под борта струю сгоревшей солярки, рванул вперед. Стешкин рванул следом. До вокзала оставалось меньше пяти минут езды, и Панюков подумал с опасением, о чем и как он будет разговаривать с этим чужим московским парнем. Уж если Вова, нахватавшись там словечек, из которых не понять ни одного, кроме «бекоз», «офкоз» (все, что осталось в памяти от селихновского школьного английского), даже сейчас, дожив почти до сорока, хвалится ими перед всеми в своем секретном письме, — какими же словами будет сыпать здесь направо и налево этот молоденький москвич?..
Панюков устал думать о Вове, устал злиться на него; глядел рассеянно в окно. Кирпичные, бревенчатые, дощатые стены домов были бурыми от пыли. Мужик с синим пластмассовым ведром качал изо всех сил рычаг водозаборной колонки, а вода все не лилась. Женщина в домашнем сизом ситцевом халате погнала через дорогу трех лохматых черных коз, но Стешкин их не пропустил…
…В конце второй недели своего пребывания в Сагачах Вова съездил в Селихново, кому-то позвонил, вернулся в Сагачи веселый, легкий, словно вымытый, и даже напевал. Сказал: «Жизнь удалась», — стал быстро собираться в путь и, перед тем как отправиться на остановку, попросил Панюкова достать из тайника в хлеву сверток с долларами. Там, где тот сверток был зарыт, словно нарочно улеглась корова с пузом. Пришлось ее согнать с места. Корова ревела и мотала головой, пока Панюков руками выгребал сверток из-под навоза и прелой соломы. Отмыл пакет и отдал его Вове. Вова уехал и с тех пор не появлялся; писал редко…
УАЗ свернул на улицу Урицкого и по пустой бетонной набережной покатил в сторону вокзала. Холодный воздух с озера заполнил кабину. Вблизи, у набережной, озеро дышало, перекатывалось и было цвета темной стали; у дальних берегов вода была недвижна и сияла синей медью солнца. С набережной свернули на Первомайскую и, миновав железнодорожный переезд, выехали на площадь перед вокзалом. Стешкин припарковал УАЗ в тени киоска, торгующего пивом, чипсами и жвачкой, и заглушил мотор.
…Панюков вспомнил напоследок: небо темнеет, из черной тучи сыплет белая осенняя крупа; Вова льет ему в ладони из ведра горячую, дымящуюся воду и терпеливо ждет, когда он, наконец, отмоет руки от навоза, хотя пора уже бежать к автобусу…
«Мог бы и сам приехать», — с грустью подумал Панюков и шагнул из машины в пыль.
В вокзальном зале ожидания было безлюдно, свежо и сыро; недавно вымытые деревянные полы еще не высохли. Гулко и вразнобой постукивали на сквозняке полуоткрытые двери, одна — на перрон, другая — в неведомый Гере городок. Гера сидел один против окошка кассы, под огнедышащей картиной, изображавшей Ленина у паровозной топки. Ждал, закинув локоть на спинку скамейки и подперев щеку ладонью. Ему казалось, что щека еще хранит холодный запах отцовского одеколона. После двенадцати часов, проведенных в дороге, Гере было стыдно вспоминать свою неблагодарную досаду, которая томила его на платформе перед отходом поезда. Он-то надеялся, что не отец его проводит, а Татьяна, но вышло по-иному. Отец не собирался провожать, он был измучен недосыпом, но мать заставила его поехать на вокзал: «Будь всюду с Герочкой и не отвлекайся; пока ты с ним, никто к нему не сунется, а если сунется, ты им сумеешь так ответить, чтоб больше и не думали соваться».
Отец с ней спорить не рискнул. На своем «хаммере» домчал Геру по ночной Москве до вокзала, вывел его за руку под фонари платформы и не отпускал руки, пока не объявили отправление. Сказал: «Ты там, смотри, не пьянствуй с мужиками; этот Панюков не пьет, не курит и не матерится, как и дядя Вова, я это знаю, но там есть и другие мужики. Писем не пиши, обратный твой адрес никому не нужно знать. Лучше звони».
Поезд тронулся. Отец обнял Геру, потерся выбритой щекой об его щеку, смутив близким и слишком сильным запахом своего одеколона. Отпрянул, отпустил наконец руку и поглядел с недовольным сонным прищуром на двух милиционеров и одного солдатика с повязкой на руке, похаживающих вдоль вагонов и позевывающих. Потом обернулся к Гере, уже шагнувшему в вагон, успел махнуть ему рукой — и исчез…
Поезд набрал скорость, свет фонарей за окнами вагона сначала был прерывист, как сияющий пунктир, потом растекся в белую и желтую сплошную линию. Гера вошел в свое купе; там оказалось пусто. Он так обрадовался отсутствию попутчиков, так основательно стал раздеваться, с толком развешивать одежду, так обстоятельно укладывался спать, что переволновался и уснуть не смог. Подушка под щекой пахла отцовским одеколоном, Гера винил в своей бессоннице одеколон, отца, из-за которого подушка пахла и не давала спать. Он заставлял себя не думать о Татьяне, но всей своей бессонницей он ее чувствовал и вскоре прекратил попытки вызвать сон и стал с Татьяной говорить. Он говорил с нею то ласково, то грубовато, то упрекал ее: «…я тут один, не сплю, и мы могли бы быть сейчас одни в купе, и пахло бы в купе тобою, а не железом этим дымным, не простынями, не одеколоном на подушке, а тобой…», — то в чем-то утешал ее, чего еще и не случилось, о чем еще и сам не знал; потом устал и все слова в нем обессмыслились, лишились звуков и рассыпались в труху; он не сдавался, продолжал без слов упрямо говорить с Татьяной — каким-то непрестанным сонным голубиным гуканьем и бульканьем. В купе медленно втек первый, еще слабый свет утра, и Гера счастливо уснул. За полчаса до прибытия в Пытавино его разбудила проводница, сердито стала торопить, предупреждая, что в Пытавине поезд стоит всего одну минуту. Гера наскоро оделся, умылся кое-как, но не успел почистить зубы. На пытавинском перроне его никто не встретил, но он не растерялся, поскольку был предупрежден отцом и дядей Вовой: не встретят — жди спокойно и не дергайся. Он и не дергался, хотя ему и не было спокойно. Только уселся на скамейку — из городка в вокзал вошел запыленный прапорщик, сурово оглядел зал и вышел на перрон. Через минуту объявился вновь, прошелся взад-вперед, поскрипывая высокими военными ботинками, поглядывая на Геру, и скоро с хмурым видом направился к нему — не прямо, а как-то боком, словно подкрадываясь вдоль стены. В Гере все заныло, но взгляд он не отвел. Прапорщик встал перед ним, навис, спросил, как у него дела. Гера не ответил, только пожал плечами, стараясь выглядеть спокойным и равнодушным. Прапорщик долго, с угрюмым видом знатока, разглядывал картину за спиной Геры, и желваки под синей кожей его щек ходили одобрительно, потом вдруг потерял к картине интерес и деловито потребовал у Геры полтинник. Гера, не глядя, достал из кармана куртки сотню и протянул прапорщику; тот взял ее брезгливо и молча вышел в городок, оставив по себе ребристые следы ботинок на мокрых половицах.