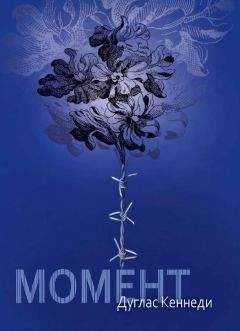— За что? За пару альбомов с семейными фотографиями?
— Они найдут причину для ареста. Это слишком опасно, слишком рискованно.
— А по-моему, ничуть.
— Ты действительно мог бы это сделать?
— Конечно. Завтра же.
— Но ты совсем не обязан…
— У тебя с собой есть фотографии Йоханнеса?
— Ни одной. При аресте они отобрали у меня бумажник, в котором были фотографии моего сына. Бумажник так и не вернули.
— Завтра вечером они у тебя будут.
— Мне так и хочется сказать тебе: «Да, пожалуйста, иди». Но если с тобой что-нибудь случится…
— Ты думаешь, за Юдит до сих пор присматривают?
— Поскольку меня уже нет в стране, а ее жизнь разрушена, сомневаюсь.
— Тогда завтра я встану пораньше и к восьми утра пересеку чекпойнт «Чарли». До Юдит я, наверное, доеду на метро.
— Садись в метро на Штадтмитте — это ближайшая к «Чарли» станция в Восточном Берлине, — доедешь до Александерплац, потом пересядешь на трамвай до Данцигерштрассе. Сойдешь на Мариенбургерштрассе, пересечешь трамвайную линию и пройдешь еще две улицы до Рикештрассе. Она живет в доме тридцать три, ее фамилия — Фляйшман — указана на звонке. Я напишу письмо с коротким объяснением, только не стану упоминать, что ты пришел за фотографиями. Как только ты возьмешь у нее все, что она даст… да, как-то нужно сделать, чтобы никто не увидел, что ты несешь.
— Я буду с рюкзаком, он достаточно большой, чтобы в нем уместилось несколько альбомов с фотографиями.
— А если они откроют рюкзак, когда ты будешь переходить границу?
— Худшее, что они могут сделать, — это конфисковать фотографии.
— Вряд ли это худшее, что они могут сделать.
— Я же американец.
— И как все американцы, считаешь себя непотопляемым.
— Абсолютно. А еще я знаю, что, если не вернусь к вечеру, попрошу кого-нибудь сделать звонок в мое посольство, и за мной пришлют морских пехотинцев.
— Не нужно этого делать.
— Нет, нужно.
Теперь я наконец понял, в каком страхе и тоске жила Петра. Одно то, что она смогла выстоять в этом кошмаре, казалось невероятным, и мне хотелось хоть как-то ей помочь. Когда мы уже лежали в постели, я сказал ей:
— Все у нас получится. Возможно, понадобятся месяцы или даже годы. Но ты обязательно вернешь Йоханнеса.
— Пожалуйста, перестань, — сердито прошептала она. — Я знаю, ты хочешь как лучше. Хочешь утешить меня. Но все эти оптимистические разговоры, надежды… вызывают обратный эффект. Я еще острее ощущаю всю безнадежность ситуации. И теперь, если что-нибудь случится с тобой там…
— Ничего со мной не случится, я буду очень осторожен.
Было начало одиннадцатого. Я поставил будильник на половину седьмого, сказав Петре, что хочу пораньше перейти чекпойнт — чтобы застать Юдит наверняка, надо прийти к ней на квартиру до половины девятого.
— Насколько я поняла из ее письма, она практически не выходит из дому, стала настоящей отшельницей.
— Она курит?
— В ГДР курят все, кто старше тринадцати лет, за исключением спортсменов, которых выращивают на этих фабриках рекордов. Так что парой пачек «Кэмел» ты сразу покоришь ее.
— А рекомендательное письмо?
— Оно будет готово к тому времени, как ты проснешься.
— Я люблю тебя, Петра.
— Я люблю тебя, Томас.
После долгого поцелуя я повернулся на бок и сдался на милость сна.
Когда я проснулся спустя восемь часов по звонку будильника, меня встретил запах дымящейся сигареты.
— Хочешь кофе? — спросила Петра.
— Когда ты встала?
— Я не ложилась.
— Но почему?
— Просто переживала…
— Из-за моей поездки?
Она пожала плечами, кивнула, потом снова пожала плечами и отвернулась от меня. В ее глазах стояли слезы. Я тотчас вскочил с постели, но, когда попытался обнять ее, она встала и потянулась за курткой, сказав:
— Думаю, мне надо вернуться к себе на время…
— Петра, зачем?
— Мне просто нужно побыть одной.
— Со мной ничего не случится.
— Я не хочу, чтобы ты это делал. Мне не нужны фотографии. Не нужны напоминания о…
— Ты написала письмо для Юдит?
Она показала на запечатанный конверт на столе. Он был надписан: «Юдит Фляйшман». Рядом с конвертом лежал листок бумаги, исписанный аккуратным почерком Петры.
— Здесь адрес Юдит и инструкции, как добраться. Я буду ждать тебя вечером здесь, с готовым ужином. Пожалуйста, постарайся вернуться к шести, иначе я…
— Я буду к шести.
— Яне смогу ни о чем думать до этого времени.
Простившись со мной долгим и поцелуем, она схватила свою куртку и направилась к двери.
Мне хотелось броситься за ней, обнять ее и в очередной раз заверить в том, что все сложится удачно. Но я уже успел изучить ее — и знал, что в такие моменты, когда Петру настигают тени прошлого, ее лучше оставить в покое. Нет ничего страшнее смерти ребенка, но жалкое существование, на которое обречена мать, когда у нее отбирают ребенка и отдают в другую семью и она знает, что больше никогда не увидит его, пожалуй, это такая же смерть.
Как жить, когда понимаешь, что с каждым днем, неделей, месяцем твой ребенок будет все сильнее привязываться к новым родителям и в нем не останется и тени воспоминаний о матери, которая подарила ему этот мир, обожала с первого вздоха, посвятила ему всю себя без остатка… я бы, наверное, уже сошел с ума от горя и ярости. Мало того что это было самое жестокое и бесчеловечное наказание, оно еще было маниакально несправедливым.
Могли бы фотографии Йоханнеса, которые я собирался принести, как-то облегчить страдания Петры? Я сомневался в этом, но все равно считал своим долгом доставить их. Потому что да, моя американская натура жаждала подвига во имя любимой женщины; мне хотелось хоть как-то смягчить те вызовы, которые ей бросила судьба. И моя мысль уже лихорадочно работала, придумывая самые разные сценарии воссоединения Петры с сыном.
Уже одеваясь, я вдруг вспомнил кое-что важное. Мы ведь не обсудили с Петрой, что ей нужно делать, если меня задержат власти ГДР — возможно, они до сих пор не убрали слежку за Юдит и наверняка заинтересуются гостем с Запада. Нельзя было исключить и то, что на обратном переходе через чекпойнт «Чарли» мне могли задать немало неприятных вопросов о происхождении фотографий в моем рюкзаке. (Я знал, что моя слабая отговорка, будто я приносил показать эти снимки своим друзьям в Восточном Берлине, не прокатит, поскольку фотографии явно отпечатаны не в Соединенных Штатах.)
Если арест все-таки случится и я не вернусь к назначенному сроку… Петра будет в панике. Даже если она позвонит в посольство, что это даст?
Я достал свой паспорт и как раз раздумывал, стоит ли оставить Петре записку, объясняя, что делать, если я не вернусь к вечеру, когда внизу послышалось движение, вернее, загремели кастрюли и сковородки, и голос Аластера произнес «О, черт!», когда одна из них упала на пол. И тут меня осенило: несмотря на показную агрессивность и экстравагантность, он был на редкость порядочным человеком, которому я мог доверять.
Так что, подхватив рюкзак, письмо для Юдит и записку с адресом, я спустился вниз. Аластер на коленях стоял возле плиты, сметая остатки омлета в мусорное ведро.
— Чертов рохля, comme d'habitude[87]. С наркотой я был гораздо ловчее.
— Но, кажется, на твоей работе это не отразилось, — сказал я, кивая на три полотна, которые уже были в стадии завершения.
Хотя они напоминали геометрические исследования в разнообразных оттенках синевы, над которыми он работал до нападения, их нельзя было назвать репродукциями. Наоборот, в этих новых картинах была особая текучесть и сложная глубина цвета и перспективы, и это был полный отход от прежнего стиля. Ушли в прошлое монотонные цвета и четкие линии. Здесь были тревожные и в то же время очень уверенные мазки, передающие богатство форм и оттенков переменчивой абстракции. Аластер увидел, что я изучаю его работы, хотя правильнее было бы сказать, что я «тонул в них», настолько глубоким было их воздействие на меня.
— Одобряешь? — спросил он.
— Не то слово.
— Кофе? — предложил он.
— Пожалуй.
— Я только что видел, как уходила Петра. Что-то не так у вас?
— Давай выпьем кофе и покурим.
— Нет проблем.
Пока варился кофе, я закурил «Голуаз» Аластера.
— Ты сегодня очень рано встал, — заметил я.
— Всю ночь работал. Последние несколько дней пашу как вол. Кстати, это реакция на некоторые изменения в моей жизни.
— Что-нибудь серьезное?
— Вот семантический вопрос для американского писателя: считать ли серьезным разрыв отношений?
— С Мехметом?
Аластер кивнул.
— Но я думал, что после той небольшой размолвки все вроде бы вернулось на круги своя.