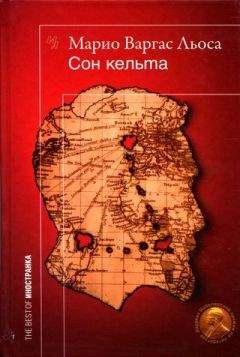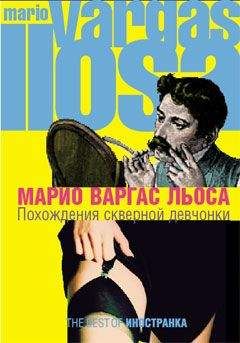— Назови еще имена, и я отпущу тебя отдыхать, — услышал он его голос.
— Он вас не слышит и не видит, полковник, — взмолился доктор Дамирон Рикарт. — Он в коме.
— Тогда оперируйте, — сказал Аббес Гарсиа. — И запомните хорошенько: он нужен мне живой. За его жизнь вы расплатитесь своей.
— Два раза не умирать. — Педро Ливио услышал, как доктор еле выдохнул: — Жизнь у меня всего одна.
— Мануэль Алонсо? — Тетушка Аделина подносит ладошку к уху, как будто не расслышала, но Урания знает, что у старушки прекрасный слух и она притворяется, тянет время, чтобы оправиться от удивления. И Лусиндита с Манолитой тоже смотрят на нее широко раскрытыми глазами. На одну Марианиту, похоже, имя не произвело впечатления.
— Да, он, Мануэль Алонсо — повторяет Урания. — Имя как у испанского конкистадора. Вы его знали, тетя?
— Случалось, видела, — обиженно кивает старушка; она заинтригована. — А какое отношение он имеет к той ужасной вещи, которую ты сказала про Агустина?
— Это тот плейбой, который поставлял Трухильо женщин, — вспоминает Манолита. — Верно, мами?
— Плейбой, плейбой, — верещит Самсон.
Однако на этот раз смеется одна долговязая племянница.
— Он был красавцем, просто Адонис, — говорит Урания. — До болезни. Рак.
Он был самым видным доминиканцем своего поколения, элегантный красавец, на которого оборачивались женщины, но за те несколько недель или месяцев, что Агустин Кабраль не видел его, этот полубог превратился в тень самого себя. Сенатор не поверил своим глазам. Похудел на десять или пятнадцать килограммов; худой, изможденный, темные круги под глазами, прежде всегда веселыми, смеющимися — взгляд жизнелюба, улыбка победителя; теперь в них не было жизни. Он слышал что-то насчет маленькой опухоли под языком, которую дантист случайно обнаружил у него во время ежегодного, рутинного осмотра, когда Мануэль еще был послом в Вашингтоне. Говорят, эта новость произвела на Трухильо такое впечатление, как будто опухоль нашли у кого-то из его детей; он висел на телефоне, пока того оперировали в клинике в Соединенных Штатах.
— Тысяча извинений, Мануэль, что беспокою тебя, не успел ты приехать. — Кабраль поднялся со стула при виде входящего в маленькую гостиную хозяина.
— Дорогой Агустин, как я рад. — Мануэль Альфонсо обнял его. — Ты понимаешь меня? Пришлось отнять кусочек языка. Но подлечусь немного и буду опять говорить нормально. Понимаешь, что я говорю?
— Понимаю прекрасно, Мануэль. И в голосе никаких странностей не замечаю, уверяю тебя.
Это была неправда. Посол говорил так, будто рот у него был набит камнями, или он был в наморднике, или вообще от роду шепелявый. Гримаса выдавала, что каждая фраза дается ему с трудом.
— Садись, Агустин. Кофе? Коньяк?
— Спасибо, ничего не надо. Я не отниму у тебя много времени. Еще раз прошу извинить, что беспокою, ты после операции. Но я попал в очень тяжелое положение, Мануэль.
Он смущенно замолчал. Мануэль Альфонсо дружески положил ему руку на колено.
— Представляю, Мозговитый. Народец мал, ад велик. Даже в Соединенные Штаты до меня дошли сплетни. Что сняли с поста председателя Сената и расследуют твою деятельность в министерстве.
Болезнь и страдания сразу добавили много лет доминиканскому аполлону, чье лицо с великолепными белейшими зубами произвело такое впечатление на Генералиссимуса во время его первого официального визита в Соединенные Штаты, что судьба Мануэля Альфонсо изменилась столь же головокружительно, как и судьба Белоснежки по мановению волшебной палочки. Но он по-прежнему оставался элегантным, одетым по последней моде мужчиной, как в молодости, когда был доминиканским эмигрантом в Нью-Йорке: замшевые мокасины, вельветовые брюки кремового цвета, рубашка из итальянского шелка и кокетливый платок на шее. На мизинце сверкал золотой перстень. Он был тщательнейшим образом выбрит, надушен и причесан.
— Я тебе так благодарен, Мануэль, что ты меня принял. — Агустин Кабраль снова обрел апломб: он всегда презирал мужчин, которые себя жалеют. — Ты — единственный. Я словно зачумленный. Никто меня не принимает.
— Я не забываю добра, Агустин. Ты всегда был добр ко мне, поддерживал все мои назначения в Конгрессе, оказал мне тысячу услуг. Я сделаю все, что могу. В чем тебя обвиняют?
— Не знаю, Мануэль. Если бы знал, я мог бы защищаться. До сих пор мне никто не сказал, какой проступок я совершил.
— Да, красавец был, помню, он только приближается, а у нас у всех сердце уже колотится, — признает тетушка Аделина нетерпеливо. — Но какое все-таки отношение он имеет к тому, что ты сказала об Агустине?
У Урании пересохло в горле, и она отпивает воды из стакана. Почему ты упорно возвращаешься к этому? Зачем?
— Дело в том, что Мануэль Альфонсо был единственным из всех отцовских друзей, кто попытался ему помочь. Чего ты не знала. И вы тоже, сестрицы.
Все три смотрят на нее так, словно она сказала несуразицу.
— Нет, ничего подобного не слышала, — бормочет тетушка Аделина. — Пытался помочь, когда он попал в немилость? Ты уверена?
— Так же уверена, как и в том, что папа не рассказал ни тебе, ни дяде Анибалу о том, каким образом Мануэль Альфонсо пытался вызволить его из беды.
Она замолкает, потому что в столовую входит прислуга-гаитянка. И спрашивает певуче на своем ломаном испанском, не нужно ли чего-нибудь или она может пойти спать. Лусинда отпускает ее, машет рукой: иди, иди, ничего не надо.
— Кто такой Мануэль Альфонсо, тетя Урания? — спрашивает тонюсеньким голоском Марианита.
— Ну, это человек непростой, племянница. Хорош собою был, из прекрасной семьи. Уехал в Нью-Йорк пытать счастья, а в конце концов стал там рекламировать одежду модельеров и роскошных магазинов, а потом появился и на уличных плакатах с разинутым ртом — на рекламе пасты «Колгейт»: освежает, очищает и придает блеск зубам. Трухильо во время одной из поездок в Штаты узнал, что красавчик с плаката — доминиканский молодчик. Велел позвать его и взял к себе. Сделал из него человека. Своего переводчика, потому что тот превосходно говорил по-английски; учителем протокола и этикета, потому что элегантность была его профессией; а самой главной его обязанностью стало подбирать костюмы, галстуки, обувь, чулки и нью-йоркских портных, которые одевали Трухильо. Он следил, чтобы Трухильо всегда был одет по последнему писку мужской моды. И помогал Хозяину в его хобби — подбирать фасон военной формы.
— А главное — он подбирал для него женщин, — прерывает ее Манолита. — Правда же, мами?
— Какое отношение все это имеет к моему брату? — Тетушка гневно сжимает кулачок.
— Женщины — не самое главное, — продолжает рассказывать племяннице Урания. — Трухильо на них было начхать, он их имел всех, кого хотел. А вот одежда, украшения были ему далеко не безразличны. Мануэль Альфонсо помогал ему чувствовать себя изысканным, утонченным, элегантным. Как Петроний из «Quo Vadis», которого он то и дело поминал.
— Я еще не видел Хозяина, Агустин. Сегодня вечером буду у него в резиденции «Радомес». И все узнаю, обещаю тебе.
Он дал ему выговориться, не прерывал, только иногда кивал и терпеливо ждал, когда у сенатора от отчаяния, душевной боли или тревоги отказывал голос. Кабраль рассказал ему все, что произошло, что он говорил, делал и думал с того момента, как десять дней назад появилось первое письмо в «Форо Публико». Он выложил этому замечательному человеку, первому, который с того злосчастного дня проявил к нему симпатию, все мельчайшие, интимные подробности своей жизни, которая с двадцатилетнего возраста была посвящена служению самому значительному человеку в доминиканской истории. Разве справедливо отказываться выслушать того, кто вот уже тридцать один год живет для и ради него? Он готов признать все свои ошибки, если он их совершил. Готов подвергнуть свою совесть самому строгому разбору. И искупить все проступки, если таковые имеются. Только пусть Хозяин уделит ему хотя бы пять минут.
Мануэль Альфонсо снова похлопал его по колену. Огромный дом в новом районе Арройо Ондо был окружен парком и обставлен и убран с изысканным вкусом. Безошибочно угадывавший скрытые возможности людей — Агустина Кабраля всегда изумляла эта его способность, — Хозяин удачно разглядел бывшего манекенщика. Мануэль Альфонсо благодаря обаянию и умению обращаться с людьми свободно вошел в мир дипломатии и смог добиться для режима немалых поблажек, Ему удавалось это на всех постах, особенно -на последнем, послом в Вашингтоне, в самое трудное время, когда Трухильо из баловня правительства янки превратился для них в обузу и на него обрушились пресса и парламентарии. Посол поднес руку к лицу, сморщился от боли.
— Иногда так дергает, — извинился он. — Как сейчас. Надеюсь, что хирург сказал мне правду. Что вовремя обнаружили. Гарантия успеха — девяносто процентов. Зачем ему врать мне? Гринго прямолинейны, без нашей деликатности, они пилюлю не сластят.