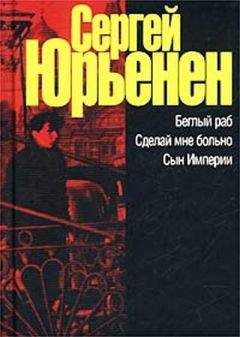В Пяскуве маме предложили взять Александра сразу во второй класс: читать-писать он уже умел и, как дитя Ленинграда, превосходил своих сверстников по общему развитию.
— Пусть будет как все, — решила мама. — Не хочу, чтобы ребенок выделялся!
И отдала Александра в первый.
Где сразу выяснилось, что лучше бы и не умел он писать. Потому что пишет он неправильно. Криво пишет. А надо было — по линеечкам. Каллиграфически.
Над столом мама раскатала и прикнопила Ленина и Сталина, а справа — политическую карту мира. Уже темно в их комнате, только нежно-зеленым излучением светится стеклянный абажур настольной медной лампы. Гусаров вот уже неделю на осенних маневрах, и мама учит Александра каллиграфии.
Раскрытые Прописи, утвержденные Министерством просвещения, прислонены к столбику лампы. Линеечки горизонтальные, линеечки косые. И с идеальной четкостью и плавностью изгибчатых переходов толстых линий в тонкие в линеечки эти впечатались три слова:
МАМА РОДИНА МОСКВА
Всматриваясь в прописи, он, Александр, старается скопировать эту четкость. Тремя пальцами — большим, средним и указательным — сжимает он по-разному жестяное оперенье красной деревянной ручки, но перо его уходит за тетрадные линейки, и вместо этой вот РОДИНЫ получается черт-те что. Под взглядом мамы с полтетради уже исписал Александр этими загогулинами и продолжает в том же духе, добиваясь четкости, ибо мама пригрозила ему, что он спать не ляжет до тех пор, пока не выйдет у него целая страница вот таких, как в прописях, — идеальных… Страница!..
Когда и загогулин двух одинаковых подряд не получается. Ни одна его РОДИНА не похожа на другую. Ни МАМА. Ни МОСКВА… И он уже еле-еле ворочает ручкой.
Но вот — внезапно — начинает выписываться.
— Не горбись! Прямо мне сиди! — толкает в спину мама, прикрикивая так, что рот Александра выходит из повиновения и начинает некрасиво, толстогубо трястись.
Срывается слеза и губит слово.
Втягивая чернила, слеза разбухает кляксой. И уже не слово — страница загублена…
— Нюни распустил? — раздается грозно над оцепеневшей головой Александра, на которой уши сами поджимаются.
(У них, ушей, такое обнаружилось свойство — смещаться.)
Звеня стеклом и нервно булькая, мама за его спиной наливает воду из графина. Ставит стакан:
— Пей!
Живот изнутри толкается, протестуя, но, укрощая организм, Александр выпивает — чайный стакан кипяченой воды комнатной температуры. Мертвой.
Мама показывает свои руки. На левом безымянном — золотое кольцо с двумя бриллиантиками и царапающейся дырочкой вместо третьего.
— Делай, как я!
Руки сжимаются в кулаки, кулаки с хрустом выстреливают растопыренными пальцами с облезлым на ногтях маникюром. И снова собираются в кулаки, натягивая кожу до голубых прожилок.
— Мы писали, мы писали, — сурово задает мама ритм, и, выбросив свои пальцы, Александр подпрыгивает от боли в суставах.
…наши пальчики устали.
Раз, два, три, четыре, пять —
Будем снова мы писать!
— Усвоил? Продолжай самостоятельно!..
Он продолжает.
Она влезает на стул и достает со шкафа из присланной из Ленинграда пачки новую тетрадку. С глянцевитыми страницами, какие только в Ленинграде на писчебумажной фабрике умеют делать, а здесь, в Пяскуве, такой культуры нет. Мама раздевает слезой испорченную тетрадь и в обертку из кальки вдевает обложку новой. Разглаживает — ребром ладони. На обложке наклеена вырезанная Александром и гусаровским карандашом «Стратегический» раскрашенная пятиконечная звезда.
Красивая, как на танке…
А на указательном пальце сделалась уже вмятина с въевшимися в кожу чернилами.
— Все потому, что у меня палец кривой.
— Вовсе не кривой.
Александр созерцает свой палец. Не то чтобы кривой, но все-таки ноготь косит.
— У меня что, в детстве рахит был?
— Никакого рахита у тебя не было. — Мать сводит брови. — Плохому танцору, Александр, знаешь?…
Это Гусаров так говорит.
— И яйца мешают?
— Не выражайся, не то, — дает ему мама небольный подзатыльник, — рот мылом пойдешь мыть.
— Гусарову, так ему можно…
— Гусаров, — говорит мама, — культурой речи в окопах овладевал. Тогда как у тебя — все условия. И ты мне зубы тут не заговаривай! Пиши давай.
Со вздохом Александр потащился тяжелой ручкой в непроливашку золотисто-зеленую, ткнулся пером. И повел по голубеньким тетрадным линейкам, одновременно втягивая голову перед неминуемой на этот раз затрещиной: вместе с чернилами перо ущемило волосок…
— Не беда, — сказала мама. — Вырвем первый лист.
В тетрадке их двенадцать, так что незаметно. Мама вырвала, выдернула последний. Пачкая пальцы, сняла волосок.
— Давай! А то уж полночь близится… А может быть, ты просто не понимаешь, почему я день-деньской бьюсь с тобой за это чертово чистописание, а? Отвечай. Понимаешь, нет?
— Чтобы как в Прописях…
— Нет, Александр. Не чтобы как в Прописях. А чтобы ты с первых своих шагов в Большую Жизнь воспитывал в себе Силу Воли. Иначе из тебя ничего не получится. Мужчина без Силы Воли — не мужчина, а тряпка. Хлипкий интеллигент! Твой дед, к примеру… Мог бы стать известным архитектором, уважаемым в Обществе человеком, а стал кем? Пьяницей и мелким игрочишкой. Асадчие меня сегодня приглашали в Дом Офицеров на французский фильм. Я что, пошла? Я осталась. Я откажу себе во всем, во всех Радостях Жизни, лишь бы ты стал Мужчиной и добился своего. Ты хочешь стать Мужчиной? Отвечай.
— Ну, — дернул он плечом, — хочу.
— А без «ну»?
— Хочу.
— Тогда давай. Пиши! Тяжело в ученье — легко в бою, — повторила Любовь ключевую формулу воспитания русского солдата, взятую из учебника генералиссимуса Суворова «Наука побеждать».
Гарнизон у западных границ
Папа принес из штаба армии две поллитры и черную весть — в Будапеште сбросили нашего Вождя. Гранитный памятник ему, сработанный на века.
— Где там у тебя мой тревожный!
Мама вышла и вернулась, бросив ему к забрызганным грязью сапогам еще с войны трофейный баул с обтертыми на учениях боками свиной кожи.
— Когда ты едешь?
— Приказано быть завтра в шесть ноль-ноль. — Папа потрепал Александра по макушке. — Ничего, сынок! Мы наведем порядок в этом мире.
— А это что?
— Это? — Папа приподнял к глазам сетку с бутылками. — Это мы с Загуляевым решили посидеть. Он тоже уходит завтра. Перед стартом, понимаешь? В порядке укрепления морального потенциала. Ты, надеюсь, ничего против не имеешь?
Командир эскадрильи истребителей Загуляев имел двух девочек. Старшая всегда казалась Александру рассудительной, но сейчас, на кухне, она явно делала не дело: взяла бутылку «Московской», подковыряла ножом станиолевую крышечку, сняла осторожно и стала выбулькивать водку прямо в раковину.
Александр схватил ее за руку.
— Ты что, рехнулась?
— Отстань! — оттолкнула его локоть.
— Им же не хватит!
Но девочка опорожнила бутылку, после чего наполнила ее водопроводной водой, надела крышечку и, взяв нож, аккуратно обжала кругом и погрозила Александру кулаком:
— Наябедничаешь — кровью умоешься.
— Очень надо мне на тебя, дура, ябедничать, — обиделся Александр и вернулся в комнату к взрослым.
Там как раз офицеры хлопнули по первому стакану, и командир эскадрильи истребителей, вырвав локоть из цепких пальцев своей жены, тут же, не закусывая, стал разливать по второму. А папа сидел, зажмурившись, прижав к усам кулак, и тянул в себя носом, как бы своим же кулаком занюхивая. Открыл глаза и объявил:
— Все, детонатор сработал. Доигрались! Теперь остается только ждать взрыва в Польше. Что ж, дорогой наш Никита Сергеевич… За что боролись, на то и напоролись!
И грохнул кулаком по чужому столу так, что тарелки подпрыгнули.
Загуляев — они сидели за столом плечо в плечо — крепко обнял папу.
— Ты это, Ленька, брось!
— Как то есть брось? — освободился папа.
— Брось, говорю, кручиниться. Давай вот.
Они дали.
Прожевав селедку с луком и хлеб, Загуляев сказал:
— Я, ты знаешь, Леонид, во многом не разделяю… Нет, ты постой! Пахан тоже дров немало наломал, так что дружба дружбой, но Никита где-то прав… Да погоди ты! Я ж с тобой согласен! По большому счету.
— Ты согласен?
— Еще бы! Не имели венгры права Пахана мордой в грязь.
— Не имели, — кивнул папа.
— Наш он Пахан — несмотря на все дела. Мы с его именем на устах умирали. Так?
— Было дело.
— И мадьярам, мать их-х-х… Вломим мы хотя бы за память о том, что это его имя хрипели мы, умирая, — а, Леонид?