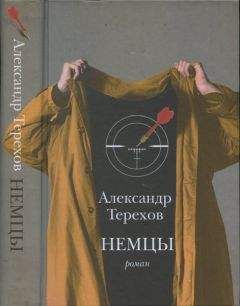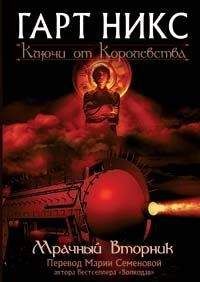Судья закрыла дверь за собой и заперлась — «те» бодро сметали в сумки хлам со стола и насмешливо поглядывали на Эбергарда. Уйти из-под их глаз («Не говори со мной в машине!»), накатывало и било в сердце (до суда не умолкнет, только ночью чуть тише), и бил, бил; хотел? вот и увидишь Эрну, они, «те», опять побеждают непредусмотренным путем — у него средства, власть и партия, на их стороне — Эрна, безжалостное (ей напишут, отрепетируют и объяснят, почему именно так) слово ребенка, никто не сможет возразить, он сам не сможет возразить, что бы ни сказала, — против дочери он не может «против»; война, что он вел, не должна была затронуть ребенка — так, что-то грохочущее вдали, о чем страшные вещи рассказывает мама, а потом всё по-другому, когда наладится, объяснит папа — и забудется бесследно. Эрна не должна увидеть — как; как взрослые бьют; а теперь ее приведут и она скажет всего лишь правду, во что сейчас вот, в единственной его жизни, верит, во что поверить помогли, во что она как бы верит, кажется, верит, во что и дальше придется верить ей, если скажет отцу на суде, в уязвимое, мнущееся лицо; и даже если потом (обязательно!) Эбергард доломает, додавит всех, победа — после нескольких сказанных вслух слов его девочкой — не будет иметь значения, победы не будет, бумага «суд решил…» — и только.
— Здесь. — Никогда еще он не подвозил адвоката домой, открыл дверцу, подал руку и прошел за Вероникой-Ларисой, за сильным, торопящимся, приподнятым каблуками шагом за пятиэтажный угол из серых кирпичей — она не прощалась почему-то, вела — во двор и остановилась лицом к лицу, каждый приготовил свое — напротив подъезда.
— Я не пойду на суд.
— Ты можешь только забрать иск. Не пойти ты не можешь. Скажут: вот, девочка, папа всё заварил, а сам сбежал и спрятался.
— Считаешь, судья поймет, что Эрна говорит не свое?
— На судью не надейся. Чередниченко не тот человек. Копаться в движениях души, вскрывать внутренние противоречия не станет. Возьмет для решения то, что на поверхности.
Адвокат холодно помолчала: что-то еще? Больше ничего? Тогда:
— Ребенок на суде — ужасно, ужасно. Нельзя спрашивать мнение Эрны, она давно не видела тебя, отвыкла…
— Но ты же не возражала!!!
Она вздрогнула, хотела заорать в ответ, но — нет, терпение, логика, уточнение с клиентом, внесшим предоплату:
— Послушай, какой был у нас выход? Если ребенок старше десяти лет, суд обязан учесть его мнение. Пусть бы опека представила в письменном виде отдельное суждение, что хочет девочка, пусть даже отрицательное! — но всё лучше, чем тащить ребенка в суд и мучить! Опека — ты же обещал решить! — заняла трусливую позицию. Они по закону обязаны представить свое заключение о графике, который ты просишь. Где оно? Его нет. Значит, выскажутся на последнем заседании и — против! — Вероника-Лариса замерзла, подрагивала, красиво одета, словно собиралась после суда ехать на день рождения или свадьбу. — Главная тайна — что на самом деле думает твоя дочь. Подростки — они все сумасшедшие и несчастные. Их надо в сумасшедший дом. — Больше не могла ждать, разозлившись, словно давно договаривались, что именно сегодня Эбергард принесет ей нужное что-то, а он молчит, а ей неудобно напомнить. Вероника-Лариса быстро, но не окончательно пошла к подъезду и, уже перешагнув порог, толкнув уже вторую дверь, но еще придерживая первую, спросила голосом человека, перенесшего болезнь горла, — трудно говорить:
— Угостить тебя чаем?
И Эбергард стронулся и с нарастающей скоростью пошел в тепло, хотя честно собирался повернуться и уехать; Эрну приведут на суд, не знал, что же делать, его затошнило от «чая» — как-то по-другому могла сказать никчемный его адвокат, ведь не старуха, а выходит — стеснительная старуха и в этом бездарна; в лифте Эбергард ее целовал, расстегивал куртку, Вероника-Лариса показывала сбившееся дыхание:
— Мне даже страшно теперь тебя запускать в квартиру… Мы… Без всяких глупостей, ладно?
В прихожей он обнял адвоката еще, и она впивалась губами, постанывая, и (она ведь сдерживает себя, борьба) отступала:
— Пьем чай. И — ты сразу уходишь. Обещаешь? Ты уходишь, а я — сразу в ванну… Вот до чего меня довел. И вот, — показывая на проклюнувшие блузку соски.
Готовила чай, хлопали дверцы, находила нужное вытянутая рука, быстрый шаг, и всё посматривала на Эбергарда счастливыми, сверкающими глазами, подносила и ставила вазочки: что еще? Это? Лучше то? Он гладил цветы на скатерти, подымал глаза на люстру.
— Вспоминала. Каждый день тебя вспоминала, — сказала так, словно воспоминание было действием, словно воспоминания не всегда были с ней рядом, словно она ходила за ними куда-то, как на рынок, и сама не знала, попадутся ли на этот раз, — ее тревожило отсутствие ответов и молчание, проступающее на стыках, молчание — то, к чему она слишком привыкла, — постылая тишина.
— Давай еще? — сделает больно, если откажется.
Унялась дрожь, Эбергард рассматривал ее тело в квартирных сумерках — да, просто огромная грудь не рожавшей и не кормившей, уже поизношенная кожа, хороший рост, бедра, ноги — хотелось бы увидеть всё, понятно, что то же самое, что у всех, но — еще раз; «сейчас поеду»; она, будто услышав, резко отвернулась и потерла лоб, скрывая закричавшие глаза. Они сидели, словно чужие и незнакомые в чужой квартире, зайдя одновременно и ненадолго согреться, не допуская лишних движений, «кто первый что-то скажет, проиграл», хотя бы… вот — как тебе мой ремонт? Да. Есть еще картины. Посмотри. Вышли в коридор, одна из дверей оказалась открытой — в спальню, вот картины — русские поля, спальню заполняла могучая, как могильная плита, кровать, многослойно кондитерски застеленная какими-то… адвокат обошла кровать поискать что-то за окном, Эбергард остался у двери — что про картины, кроме «красиво». Попытался сбить ее, встряхнуть тем, чем остужаются все: про детей — моя Эрна, про Улрике — ей так непросто; адвокат усмехнулась: непросто? да, она плачет вечерами, когда тебя нет, но зато ты будешь стоять с ней на родах и держать за руку, заберешь из роддома на белой машине, будешь вставать к ребенку по ночам, чтобы она набиралась сил; ей будет не надо (вспоминала что-то свое) думать, где жить, чем оплачивать квартиру, на что купить телевизор, всё, что ей нужно, у нее просто откуда-то «будет»; вот так, тряхнула она головой, о чем тут, не о чем; ей не хотелось про это, про суд, суд, про суд надо думать; не волнуйся, есть время, занимайся органами опеки, твоя задача, а я всё продумаю, будем действовать смело и неожиданно для противника, Эрна ничего не заметит и не поймет, ты сможешь молчать, я всё сделаю сама, потом скажу, что придумала; ну? — вопросительный взгляд, соединила руки, подняла к груди, расцепила, поправила волосы, погладила правое, задравшееся зябко плечо: ну? — выглядело: «вы покупаете эту квартиру? я же отпросилась с работы на полчаса, чтобы вам показать».
— Сейчас поеду, — всё, что нашлось в пункте выдачи готовых слов, несколько ледяных смерзшихся кубиков вывалилось в короб и льдогенератор вхолостую загудел.
Не допустив ничего похожего на «давай», «ну, пока», сосредоточенно опустив голову, выставляя стопы на узкую досточку, Вероника-Лариса дошла до него и дружески толкнула ладонью в грудь — он шатнулся и присел на болотистое кроватное покрытие, напряженно улыбнувшись, она очень серьезно раз местилась у него на коленях, обхватив шею, и произвела тесный, проникающий, старательный поцелуй, следующий академическим правилам «начало прелюдии, оральный контакт с участием губ и языка», чуть отстранилась: есть нужная отметка на датчике? добавить? и целовала еще, запустила руку ему под рубаху, нашла и щипала там больно сосок; Эбергард замер под душной тяжестью, боясь потерять равновесие и завалиться с грузом, тоже поглаживал очертания и формы, припоминая этот танец, но без музыки, чмокал что-то там, а потом умаялся от жара, жары, неподвижности и сдался:
— Я пойду в ванну.
Мгновенно, как и мечтал, без лишнего, снялась с колен — Вероника-Лариса: да; не поворачиваясь, стыдясь, туда, рукой:
— Синее полотенце, там…
Он скрытно вздохнул, сбрасывая пиджак, и слышал, как за спиной она, порождая ветер, сметает ненужные покровы с постели, с пластмассовым шорохом запахивает шторы и сильно щелкает кнопками, делая — новый свет.
Потом, когда, ему показалось, стемнело, на улице кончилось утро и прошел день — она жадно рассматривала его успокоившееся лицо, расстающееся с излишками крови, и поглаживала его тело, всё, что доставала рука, — про запас, на потом, чтобы оставить хоть на немного запах, память кожи его и волос на ладонях.
— Ненавидишь меня?
— Ты что?
— Такое у тебя выражение лица.
— Мне было очень хорошо. Такая красивая ты…
— Говоришь для того, чтобы что-то говорить? Скажи серьезно: зачем тебе это надо? Зачем это нужно мне, в общем, ясно. А зачем тебе?