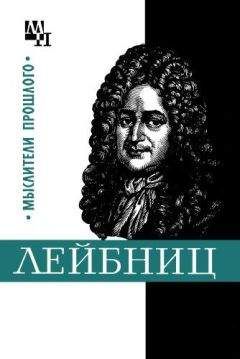Ко всеобщему удовольствию, одну из таких однополых пар составили два главных дискутанта Остзейского кумпанейства филозофов, Вольтер и барон Фон-Фигин Федор Августович. Попеременно то один, то другой из них изображали даму. При всех стараниях Вольтера все соглашались, что у Фон-Фигина это получалось лучше.
***
Оркестр для этого бала Афсиомский заказал в Гданьске стараниями, разумеется, все того же герра Шпрехта-пана-Пташка-Злотовского. Член магистрата и сам удосужился прибыть вместе со своей саксонской гнутой трубкою. Теперь, сидя в первом ряду музыкантов и издавая вельми гармонические звуки, он раскланивался и с министром финансов Цвейг-Анштальта, и с влиятельной ключницей герцогини Амалии, и с канцеляристом из свиты статс-секретаря, а также условными знаками и с прусской агентурой, кою мы поостережемся называть, не прерывая котильону.
Вдруг торжественное и, по правде сказать, несколько занудное шествие нарушилось нежданной эскападою. В оркестре застучал турецкий барабан, непостижимым образом взметнулись скрипки, вместе с короткими отрывами и долгими волнообразными пассажами заговорили саксонские трубки: смешав жанры, оркестр перешел с чинного котильона на вихревой матлот, то есть матросскую пляску, хорошо известную всякому, кто плавал к индиям.
Пары словно сорвались с привязи и на всех парах, хоть так тогда еще и не говорили в связи с неполным присутствием паровых двигателей, помчались к неведомым экстазам. Кавалеры закрутили дам вокруг себя, мелькая и сами наподобие ткацких челноков. Запестрели и локти, затряслись над головами кисти рук. Трудно поверить, но дамы поддергивали полотнища своих юбок, обнажая конечности аж до прельстительных щиколоток, а обладательница турецкого машкерадашаривари даже отважилась на вполне не робкую имитацию «танца живота». Вместо стройных колонн котильона на leppace теперь клокотала анархическая «матроска» Века Просвещения. Моду тут задавали, конечно, молодые мичманы с линкора «Не тронь меня!» Фукс, Факс и Факсимильев. Ловя на себе поощрительный взгляд посланника Фон-Фигина, не отставал от молодежи и коммодор Вертиго. Что касается корабельного батюшки отца Евстафия, тот отчебучивал чечетку. Временами кто-нибудь из моряков выкрикивал «Трави концы!» — и тут же несколько луженых глоток отвечали ему кличем своего корабля «Эвонна эвво!». Иные, в частности только что взбежавшие на террасу кавалеры Буало и Террано, пошли вприсядку. Засим, уже с участием нижних чинов, а именно гвардии унтеров эскорта его светлости, образовался хоровод вокруг великого Вольтера. «Ах, маменька, ах, папенька, — умоляли своих августейших родителей пылающие курфюрстиночки, — ну позвольте же ж и нам присоединиться к танцующему пчеловодству!» Курфюрст качнул своей козлиною бороденкою мыслителя и воителя: ну как он мог отказать своим возлюбленным детищам? Курфюрстина подтолкнула девочек и сама прокрутилась вокруг собственной оси. Взвизгнув, Клаудия и Фиокла влились в хоровод, по чудеснейшей случайности как раз между Мишелем и Николя, как раз насупротив подмигивающих им Марфушина и Упрямцева.
Вольтер вращался в центре, словно солнце со своим хороводом планет. Подняв ладони ко рту, он трубил:
Крутись, о жизни колесо,
Как сказал Жан-Жак Руссо!
Прокрутившись весь круг, трубил уже следующую припевку:
Пошли всем щастия ведро,
Так просил Дени Дидро!
Еще круг — и следующая припевка:
Всем восхищения без мер,
Провозглашает Д'Аламбер!
В завершение бурного матлота вокруг филозофа образовался малый круг младости: курфюрстины Фиокла и Клаудия, кавалеры Мишель и Николя, гвардии унтеры Марфушин и Упрямцев, а также мичманы Фукс, Факс и Факсимильев. Уноши подъяли над головами свое холодное оружие, уницы же взвихрили ночной бал лентами и перьями своих умопомрачительных шляп. И вся девятка протрубила завершающую припевку:
Веди, вершитель вышних сфер,
Наш электрический Вольтер!
Следует сказать, что, употребляя слово «электричество», вольтерьянцы тех времен имели в виду не бытовой источник энергии, но непостижимый небесный поток сродни фложистону.
***
«Как странно, мой Вольтер, протекает время за пределами нашей сугубой регулярности! Всего лишь неделю пребываем мы на сем острове, а ведь кажется, что уж не менее месяца прошло! В Санкт-Петербурге при всех ритуалах Двора не успеешь и заметить, как промелькнут семь дён. Ты как филозоф не считаешь ли, что путешествия страннейшим образом расширяют время нашей жизни?»
Так вопросил барон Фон-Фигин своего обретенного в течение сей толь долгой июльской недели друга. Вдвоем они отдалились от шумного празднества и теперь сидели в креслах на маленькой галерее, где сервирована была для них партия душистого таиландского чаю. Общее веселие уже затихало, лишь изредка с террасы доносились до них вспышки смеха и всплески разноплеменных голосов. Многие гости уже возвращались восвояси. В частности, виден был в полосе лунного света вельбот с плывущими к кораблю моряками.
Вольтер развязал свой изящный галстух. Шелковая ткань немедленно была подхвачена прилетевшим с востока бризом. В полумраке галереи старец показался барону едва ли не ровесником. Голос тоже, как будто бы под чарами ночи, звучал по-молодому: «Ах, Фодор, я думаю, ты не удивишься, если я скажу, что мы проводим здесь дни страннейшего волшебства. Время тут пошаливает со своими клиентами, то есть с нами. Меня, например, посещают тут сны, кои самыми причудливыми метафорами соединяются с реальностью. Иногда мне кажется, что причиной сего феномена является твое присутствие, мой Фодор. Иногда мне кажется, что я уже представлен Императрице и говорю с ней на „ты“, как с тобою».
Фон— Фигин расхохотался всеми своими жемчугами: «Ласкаюсь узнать, как звучит на „ты“ обращение „Ваше Величество“. Вольтер с игривостью пожал плечами светского человека: „Нет ничего легче. ТА MAJESTE, Твое Величество, сказал бы я ей. Твоя царская таинственность может соперничать только с твоей женской прелестью, так бы я ей сказал“. Барон расхохотался еще пуще: „Мне это нравится! Клянусь, Вольтер, я никогда еще не встречал большего дамского угодника и обольстителя императриц, чем ты!“ И с этими словами он нажал двумя пальцами на коленную чашечку старика. Длинная сухощавая конечность дернулась, как лягушка под иглой исследователя. Нет, недаром этого Вольтера называют „электрическим“.
Вольтер извлек из камзольного кармана табакерку с портретом Императрицы и предложил понюшку своему собеседнику. Как это водится в мужских клубах между сурьезными конфидантами, оба в унисон прочистили ноздри зарядами чистейшего вест-индийского табаку.
«Я должен сделать тебе, мой Фодор, одно курьезное признание, — сказал Вольтер после этого акта дружбы. — Не знаю, как ты, но я никогда в жизни не испытывал никаких гомосексуальных поползновений. Даже Фридрих Прусский не смог меня соблазнить своими прекрасными Антиноями-адъютантами. Не исключаю, что сия моя несклонность была одной из причин нашей размолвки. Но вот, вообрази, на этом странном острове, под этими странными балтийскими небесами я стал испытывать некоторое влечение к одной из присутствующих здесь мужских персон. И эта персона — ты, мой Фодор. Мне кажется, что сие курьезное чувство, превышающее обычное чувство дружбы, кое немедленно возникло между нами, вызвано тем, что ты несешь в себе образ вашей Императрицы».
Он посмотрел на посланника, ожидая увидеть в его лице насмешку, возмущение, презрение, брезгливость — одним словом, гамму отвратственных чувствований, кои, как казалось ему, должны были возникнуть при такого рода признаниях у сильных мужчин, к каковым он, безусловно, относил себя и «своего Фодора», хотя теоретически и предполагал в сиих чувствованиях глубоко замшелую филозофскую отсталость, но вместо этого нашед на лице оном вельми серьезный и внимательный прищур.
Он продолжал с печалью: «Не знаю, что со мной, поверь, не могу понять. Вообрази, старость принесла мне не только телесные слабости, но и некое спокойствие, поскольку освобождала от чувственности. Но вот на острове сем, что явственно встал из вод балтийских не без помощи лукавого, меня стали посещать неведомые и прежде, в младые годы, эротические фантазмы. Не могу даже и сказать, что это было, сны или галлюцинации. Однажды ночью мне мнилось даже, что я был взят в объятия двумя младыми феминами с великолепными усами, сродни тем, коими по праву гордятся твои гвардейские прислужники. Якобы я испытал с ними то, чего не хватало мне даже и в юные годы, после чего был озарен чем-то третьим, совсем невыразимым и величественным.
Вот именно после той безумной ночи я стал испытывать к тебе, мой Фодор, странное влечение. Мне почему-то кажется, что я за тысячу миль влюбился в Екатерину, а поелику ты связан с нею интимнейшими узами фаворита, преданного защитника и умного друга, сие страннейшее чувство к женщине, которую я никогда не видел и вряд ли увижу, частично перенеслось и на тебя, мужчину. Ну-с, что ты можешь сказать о толь диковинных инверсиях чувств, или, как бы назвал это наш общий друг Ксено,«облискурациях»?»
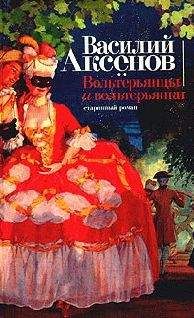
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/108530/108530.jpg)
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/107258/107258.jpg)