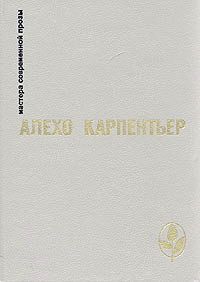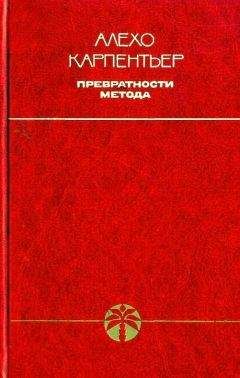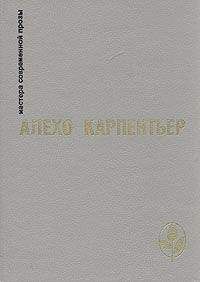– Vous m'emmerdez! [134] – крикнул Эстебан и бросился к выходу, натыкаясь на кресла, попадавшиеся на его пути.
Пересекая патио, он увидел, что в двери, ведущей на склад, торчит ключ. Молодому человеку вдруг захотелось осмотреть склад и магазин, в какой-то степени принадлежавшие и ему, тем более что в воскресный день там никого не было. Запах рассола, проросшего батата, лука, вяленого мяса, который в свое время казался Эстебану таким неприятным, теперь ударил ему в ноздри, точно сильный и животворящий запах перегноя. Так пахнет в корабельных трюмах, на рынках портовых городов и в набитых разной снедью складах. Из кранов бочек по капле стекало вино; зеленели круги ламанчского сыра; сквозь стенки пузатых глиняных кувшинов проступали масляные пятна. И всюду царил образцовый порядок, которого тут раньше не наблюдалось. Все было аккуратно расставлено, разложено, развешано, словом, устроено так, как того требовал каждый товар: с потолочных балок свисали окорока и связки чеснока; там и сям возвышались горы зерна; на полу стояли бочонки с анчоусами и маринованной рыбой. А дальше, в патио, над которым теперь устроили навес, на забранных решеткой прилавках виднелись образцы товаров, какими прежде фирма не торговала: солонки, медальоны, щипцы из мексиканского серебра для снятия нагара со свечей, тонкий английский фарфор, китайские безделки, доставленные через Акапулько, заводные игрушки, швейцарские часы, вина и другие спиртные напитки из старинных погребов графа Аранды. Затем Эстебан направился в контору: тут счетные книги, чернильные приборы, перочинные ножи, песочницы, линейки и весы дожидались на своих местах служащих, которые вновь придут сюда на следующий день. Войдя в светлую, просторную комнату, где стояли два массивных стола, молодой человек подумал, что, должно быть, для него поставят здесь третий стол и он тоже займет свое место возле стены с панелью красного дерева, на которой висел писанный маслом портрет отца – основателя фирмы: У старика были сурово нахмурены брови – он вечно ходил насупленный, – и весь его облик говорил о добропорядочности, строгости нрава и предприимчивости. Эстебан на минуту представил себе, что ему придется сидеть взаперти среди образцов риса и турецких бобов, переходя от счетных книг к ценникам и споря с неаккуратным плательщиком или с розничным торговцем из провинции, а в это время за окном будет сиять ослепительное утро и солнечные лучи станут сверкать на водной глади бухты, когда, ее пересечет какой-нибудь клиппер, взявший курс на Нью-Йорк или мыс Горн. И Эстебан понял: все это никогда не будет занимать его в такой степени, чтобы он согласился посвятить подобному делу свои лучшие годы. Он был уже навсегда отравлен морскими приключениями, привычкой жить сегодняшним днем и не чувствовать себя рабом вещей. Ему казалось, что он вырвался из преисподней, и он все еще не мог обрести себя – почувствовать себя самим собою, по-настоящему ощутить, что он опять живет обычной для всех жизнью. Он возвратился к себе в комнату. Сидя возле сваленных в угол марионеток и физических приборов, София ждала его, не решаясь уйти спать: лицо ее выражало глубокую печаль.
– Ты сердишься на нас из-за того, что мы во что-то верим, – сказала она.
– Вера в идеи, которые всякий день меняются, принесет вам жестокое и мучительное разочарование, – сказал Эстебан. – Вы поняли, что именно вам следует ненавидеть. И только. А поняв это, готовы поверить в любую мечту, готовы связать с нею свои надежды.
София поцеловала брата совсем так, как она это делала, когда он был ребенком, и поправила одеяло, свесившееся из гамака.
– Пусть каждый думает, что хочет, но пускай все у нас будет по-прежнему, – сказала она, выходя из комнаты.
Оставшись один, Эстебан с горечью сказал себе, что это невозможно. Существуют эпохи, словно созданные для того, чтобы истреблять стада, перемешивать языки и разобщать народы.
Дни проходили за днями, а Эстебан все никак не мог решиться приступить к делам торговой фирмы.
– Завтра, – говорил он, будто оправдываясь перед родными, хотя никто от него ничего не требовал.
А назавтра он снова шел бродить по улицам или переплывал бухту в лодке, направляясь в пригородный район Регла. Там, прямо у стойки, можно было выпить стакан очень крепкого тростникового сока или сладкого красного вина, а потом закусить куском жареного поросенка, который напоминал ему о былых пиршествах корсаров. В дальнем углу гавани, прижавшись друг к другу, точно нищие в холодную зимнюю ночь, покрывались плесенью старые парусники, отправленные на покой, как дряхлые инвалиды; теперь они покачивались на легкой волне, понемногу пропуская воду сквозь растрескавшиеся днища, усеянные моллюсками и оплетенные фиолетовыми водорослями. Чуть подальше еще виднелись полуразрушенные дощатые домики, где несколько месяцев жили в заточении иезуиты, изгнанные из американских владений Испании: их доставили сюда через Портобельо из расположенных в Андах монастырей. Продавцы молитвенных текстов, обетных даров, всевозможных талисманов – магнитов, кусков черного янтаря, железных и коралловых ожерелий – невозбранно торговали своим товаром. Здесь в каждой христианской церкви, прямо за ризницей, скрывался тайный храм Обата-лы, Огуна и Йемайи, [135] и ни один священник не решался протестовать, хотя знал, что негры-вольноотпущенники, становясь на колени перед распятием или статуей девы Марии у алтарей католических храмов, на самом деле поклонялись своим древним африканским богам. Иногда, возвратясь в Гавану, Эстебан отправлялся в театр «Колисео», где труппа испанских актеров под звуки веселой тонадильи [136] представляла мир мадридских щеголей и гуляк, напоминая молодому человеку о городе, путь в который был для него закрыт из-за войны. Незадолго до рождества родные Хорхе пригласили Софию, Карлоса и Эстебана провести праздники в их поместье, которое слыло одним из самых богатых и процветающих на острове. Как всегда к концу года, в торговле царило оживление, Карлос и Хорхе не могли бросить магазин, и было решено, что София поедет раньше вдвоем с кузеном, а ее муж и брат, завершив дела в городе, приедут спустя неделю. Это решение пришлось по душе Эстебану, так как постоянное присутствие Хорхе отдаляло от него Софию; не удавалось ему также восстановить узы дружбы, связывавшие его прежде с Карлосом: тот был вечно занят делами фирмы, по вечерам часто уходил на собрания франкмасонов, а если и оставался дома, то, сильно устав за день, сразу же после ужина засыпал в кресле, тщетно стараясь делать вид, будто прислушивается к общему разговору…
– Наконец-то я обретаю тебя вновь, – сказал Эстебан Софии, когда они оказались вдвоем в экипаже, катившем по направлению к Артемисе.
Карета подпрыгивала на ухабах, но под клеенчатым верхом было довольно уютно, и путешественники чувствовали себя как в люльке. Они останавливались поесть в гостиницах и на постоялых дворах, где забавы ради заказывали самые простые и незнакомые им кушанья – похлебку из овощей и мяса с перцем или жареных лесных голубей, – и София, дома не притрагивавшаяся к напиткам, с удовольствием пробовала отличное вино, которое они ненароком обнаруживали на прилавках маленьких лавчонок среди обыкновенной водки и дешевых красных вин. Лицо ее розовело, на висках выступали капельки пота, и она смеялась, смеялась так же весело, как в былые дни: теперь она совсем не походила на важную даму, хозяйку добропорядочного дома, она словно избавилась от неусыпного, хотя и не назойливого наблюдения. По Дороге зашел разговор о Викторе Юге. Эстебан спросил Софию о письме, которое он ей привез.
– Ничего особенного. Я ждала большего, – ответила она. – Но ты ведь знаешь Виктора: остроты, которые теряют всю прелесть, когда они изложены на бумаге. А общий тон грустный. Жалуется, что у него нет друзей.
– Он сам повинен в своем одиночестве, – сказал Эстебан. – Решил, что великим людям не пристало снисходить до дружбы. Даже Робеспьер и тот до этого не додумался.
– Юг всегда был о себе слишком высокого мнения, – заметила молодая женщина. – Вот почему, когда судьба вознесла его над другими, обнаружилось, что ему это не по плечу. Он мечтал стать героем трагедии, но оказался в роли статиста. А ко всему еще, подумай только, где он подвизался: Рошфор, Гваделупа… Задворки!
– Он мелкий человек. Множество фактов об этом свидетельствует.
И Эстебан отыскивал в памяти все, что могло умалить надменного и высокомерного Виктора Юга: непристойную фразу, которую однажды услышал от него; плоскую остроту; неразборчивость в любовных похождениях; проявленную слабость, – молодой человек припомнил позорную сцену, когда Антуан Фюэ угрожал отстегать Юга хлыстом, если тот без приглашения явится в масонскую ложу корсаров, а Виктор молчал и только криво усмехался. И потом этот культ Робеспьера, превратившийся в жалкое подражание… Эстебан приводил все новые и новые примеры, унижавшие его вчерашнего друга: слабости Юга особенно возмущали его именно потому, что он прежде любил этого человека.