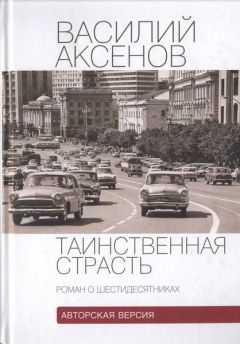Утром в гостиницу прискакали с круглыми глазами университетские энтузиасты нового искусства. Кукуш и Ваксон, будьте, пожалуйста, осторожней. В руководстве прошло мнение, что московские писатели вели себя неадекватно и испортили молодежи ее заветный праздник. Больше того, стало известно, что первый секретарь порекомендовал университету дать отпор этим неадекватным товарищам.
В университете царила какая-то перепуганная беготня, как будто к городским рубежам подходила Добровольческая армия. Амфитеатр был полон, или, лучше сказать, битком набит. Московские гости завели разговор на сугубо литературные темы. Последовало несколько филологических вопросов. Потом кто-то попросил Кукуша спеть «что-нибудь новенькое». Бард, как всегда, стал немножко кокетничать. Да я сейчас почти не пою, да у меня и гитары нет, и так далее. Заготовленная студентами гитара тут же приплыла к нему прямо на колено. Он спел «Моцарта», «Молитву Франсуа Вийона», «Возьмемся за руки, друзья». В зале, как всегда среди учащейся молодежи, выявилось несколько чудных девичьих лиц с глазами на мокром месте. Вдруг по рядам как будто швабра прогулялась; прошла полоса искаженных черт, в конце которой вздыбился могутный казак из преподавательского состава. Он задал кардинальный вопрoc: «А вот скажите-ка, московские писатели, как вы относитесь к вводу наших войск в Чехословакию?» И вновь, как вчера, возникает какой-то специфический ростовский феномен — хаотическое бурление толпы.
Ректор быстро поднимает и медленно опускает обе руки, как бы говоря: спокойно, товарищи! Не нужно так реагировать на сугубо академический вопрос. Зал затихает, и в наступившей тишине Кукуш Октава произносит свой ответ: «Лично я считаю ввод войск в Чехословакию большой политической ошибкой». За этими словами следует взрыв, уже не просто хаотический, но скорее землетрясительный. Со всех сторон амфитеатра гремит или визжит слово «Позор!» Трудно понять, кому оно адресовано: советской ли армии или Кукушу Октаве, позорному либералу и пораженцу? Кукуш сидит, прикрыв ладонью глаза. Ваксон стоит с поднятой рукой и кричит: «Прекратите провокацию! Не трогайте Кукуша!» Зал затихает только через несколько минут. Встреча окончилась. Уходя, Ваксон говорит в микрофон: «Хотел бы я знать, кто это все приказал и разыграл».
Никто не пришел их провожать. В толпе на nepроне им все время казалось, что за ними плывут глаза сыскных. В поезде сразу прошли в вагон-ресторан. Заказали коньяку и выпили с ходу по полстакана. Потом обнялись. Вакса, мой дорогой! Кукуш, мой сердешный!
Эти люди о друге пеклись по-братски
И не только от общих богемных игр,
И не только от общих корней бурятских.
Где прошел буреломом еврейский тигр.
Их отцы возжигали огни коммунизма,
Возглавляли уральские города,
Погибали от жадных адептов садизма
В той стране, где гуляла блажная орда.
Матерям не сбежать от соблазнов троцкизма,
И наградой за все встретит их Колыма.
Молодой «комсомол» стал унылою тризной
Под присмотром железного дядьки-сома.
Дети жертв, собирайте словесные гроздья,
Пока каждый еще не хронически пьян,
Обуян стихотворства таинственной страстью
И не стал еще глух словно гнилостный пень.
Через час их основательно развезло. Они сидели в углу трясущегося ресторана, кончали вторую бутылку и тихонько разговаривали о том, что их общий друг Гладиолус Подгурский называл «семейной и личной жизнью».
— Ну, расскажи мне о своей зазнобе, — говорил Ваксон. — Какова она в интиме?
— Она божественна в своей нежности и нежна в своей божественности, — отвечал Кукуш. — Гениальна в своей ребячливости и ребячлива в своей гениальности.
— Здорово сказано, — кивал Ваксон. — Так и видишь ее всю.
— А теперь расскажи мне о своей, — благосклонно предложил Кукуш.
— Это о ком?
— О своей зазнобе.
— С какой это стати я буду рассказывать о ней?
— Я ведь тебе рассказал о своей.
— Я твою знаю, а ты мою нет.
— Ну так тем более скажи о ней четыре слова.
— Четыре слова?
— Да, четыре.
— Стерва любимая, прелесть невыносимая.
— Неплохо сказано, Сизый Нос, тем более что я ее знаю.
Между тем за ними в переполненном вагоне внимательно наблюдали два очень похожих друг на друга молодых человека: длинные волосы, пышные бакенбарды, свисающие усы. Дождавшись официанта, они послали им третью бутылку коньяку в сопровождении записки: «От нашего стола — вашему столу. Федор и Сергей Борисовы, поклонники талантов». К счастью, бутылка с запиской до них и не доехала. Ее перехватил юнец херувимской внешности в курточке студенческого стройотряда. Сунув ее в карман, он продекламировал экспромт: «Эту пару в бакенбардах вы должны отправить в жопу. Ведь фальшивки-леопарды недостойны антилопы!» И тут же испарился в накуренном воздухе.
В Москве на перроне их ждали обе зазнобы. Курили и болтали под просветлевшим за ночь небом. Расхохотались, когда из вагона вышли оба желанных джентльмена: «Ну, что я тебе говорила? На море и обратно!»
Черно-желтая «Волга» выехала на Садовое кольцо. За рулем сидела Ралисса. В десяти метрах за ними следовала целиком черная «Волга» с двумя похожими друг на дру га молодыми людьми, но уже без усов и бакенбардов. «Вот гады, опять тащатся сзади», — сказала она своему другу. На заднем диване сидели Кукуш с его приятельницей. Они ничего не видели и никого не слышали, кроме друг друга. Взахлеб читали стихи.
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Нo что—то кони мне попались привередливые.
Коль дожить не успел, так хотя бы — допеть
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
Давайте понимать друг друга с полуслова,
Чтоб ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, —
Тем более что жизнь короткая такая.
БУЛАТ ОКУДЖАВА
Израсходовался. Пуст.
Выдохся. Почти смолк.
Кто-нибудь другой пусть
Скажет то, что я не смог.
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Наверно, с течением лет
Пойму, что меня уже нет.
……………
Но лишь бы с течением дней
Не жить бы стыдней и стыдней.
……………
И лишь бы с теченьем веков
Не знать на могиле плевков.
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО
Мой лес!
Мой безлиственный лысый лес!
Мой лес!
Мой густой деревянный добряк!
Скажи, ты готов
К дикарям-декабрям?
ВИКТОР СОСНОРА
Уходят от меня мои друзья.
Не волоча свой след и не виляя.
Как мамонты, природу оголяя,
Уходят от меня мои друзья.
ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН
О чем поет, переведи,
Эстонка с хрипотцой в груди?
Ужель сошелся клином свет
И за углом — кофейня?
Ты наклоняешься вперед,
И твой подстрочник, нет, не врет,
В нем этот свет, а также тот,
И там, и тут — кофейня.
ЮННА МОРИЦ
Неузнанным ушел День-Свет, День-Рафаэль.
Но мертвый дуб расцвел средь ровныя долины.
И благостный закат над нами розовел.
И странники всю ночь крестились на руины.
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА
Существование — будто сестра,
Не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
Благодарю, что не умер вчера.
Ибо права не вражда, а волжба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Июль завершился грандиозной демонстрацией народной любви. Партия затуманилась: любовь была не к ней. И дажe не к ее грандиозным планам. Демонстрация была выражением любви к объекту ее нелюбви. Любви и печали, если не необъятного народного горя. Хоронили Влада Вертикалова.