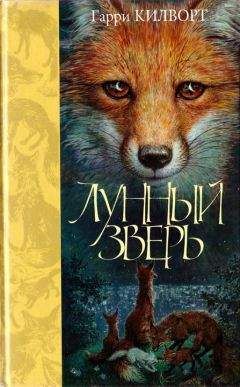На этом бурлящем фоне Эрнест видел свою жизнь — еле заметную точку на огромном полотне. И все же — это человеческая жизнь! Разве тот, кто пренебрегает своими правами, может уважать права других людей? Но точка остается точкой, он всего-навсего пылинка в солнечном луче, и поддержки себе надо искать только в тайниках ума и сердца, — искать и не находить.
Минуту Эрнест сидел, прислушиваясь к своим путаным грустным мыслям, тонущим в звуках, которые его пальцы извлекали из рояля, скользя по клавишам, словно по воде. Рояль старенький, разбитый; когда они с Эви поженятся, — у них будет «Миссен». Эта статья расхода была уже внесена в бюджет идеального дома, который существовал пока только в записной книжке Эрнеста. «Миссен» стоял там рядом с кафельным камином, гравюрами, американскими шкафами для книг и многими другими вещами, свидетельствующими о хорошем вкусе хозяев. Время от времени Эрнесту приходили в голову новые мысли относительно устройства идеального жилища, он тут же закреплял их в записной книжке, в которой под конец вырос солидный список домашнего инвентаря самого высшего качества. Раньше, в свободные минуты, он постоянно брался за свою записную книжку и делал там пометки остро отточенным карандашом. Но теперь ему не хотелось заглядывать в нее. С тех пор как началась война, заветная книжка, как и многое другое, потеряла для него непосредственный интерес.
Тем не менее идеальный дом так ясно стоял перед мысленным взором Эрнеста, что в мечтах он часто приходил туда, бродил из комнаты в комнату, пил чай с Эви за столиком с выгнутыми ножками при свете свечей, отдыхая там от несовершенств «Золотого дождя». Несколько месяцев тому назад Эрнест был так полон этим, что мог бы составить пособие для молодоженов по устройству и меблировке дома и прочим хозяйственным вопросам, встающим перед каждой молодой четой. Но теперь он больше думал о самой Эви, к которой так рвалось его сердце, о смуглой, ласковой Эви, знавшей каждую его мысль, каждый порыв души.
Ведь, может быть, ему не дождаться конца войны, не дождаться свадьбы; может быть, впереди ничего не будет. Люди его возраста ближе к могиле, чем старики. А по ту сторону их ждет забвение, в черной пасти которого уже исчезли в прошлую войну миллионы жизней. Таких, как он, тысячи, и война вычеркнет эти тысячи из списка живых, словно они никогда и не рождались на свет, никогда не тешили себя мечтами, желаниями и надеждами, так похожими на его собственные.
С тяжелым вздохом Эрнест прогнал от себя эти мысли. Он почувствовал, как в нем загорается холодный гнев, на который способны люди хоть и эгоцентричные, но мыслящие, те, кто считают себя скорее зрителями, чем участниками затеянной в мире сумасшедшей игры. Погружаешься в эти размышления, точно в бездну, а когда достигнешь самого дна, тебя вдруг выносит на поверхность. Тут, видно, действует какой-то закон компенсации, думал он, нечто вроде эмоционального очищения. Блэйк говорит об этом в своих «Психологических этюдах». Во всяком случае он чувствует себя гораздо свежее после таких раздумий, — с обновленным духовным аппетитом. Вот теперь надо поиграть!
Он спокойно зажег свет в полной уверенности, что о затемнении позаботится кто-то другой.
Эрнест снова сел за рояль и в этой привычной для него позе стал, сам того не подозревая, самым обычным молодым человеком. Отважившись на приступ 48-й фуги Баха, он с одинаковой легкостью отбросил от себя и деловые заботы и тревоги о судьбах мира. Он с подъемом одолевал самые трудные пассажи и чувствовал, что играет хорошо. Ему было приятно сидеть в гостиной одному, но если бы его игру могла слушать публика, он не отказался бы от этого. Иногда он воображал, что его слушают, чувствовал напряженную тишину за спиной, потом короткую паузу и за ней бурю аплодисментов. Часто эти мечты казались ему пустым тщеславием, но, с другой стороны, они вдохновляли его, и в такие минуты он играл особенно хорошо.
Эрнесту, не приходило в голову, что у него есть аудитория — в столовой, в кресле у камина, аудитория, состоящая из одного человека, того самого, который купил ему рояль и частенько сожалел об этом, не обладая тем утонченным вкусом, каким Эрнест наделял свою воображаемую аудиторию.
Мистер Бантинг слушал Эрнеста уже добрых полчаса с тем вынужденным вниманием, которое человек поневоле уделяет неприятным, раздражающим слух звукам. Потеряв надежду сосредоточиться на чтении газеты, он стал гадать, какое классическое произведение играет Эрнест, — точь-в-точь как Оски старался опознать садового вредителя, чтобы с тем большим основанием обрушить на него свою ненависть. Для сонаты это недостаточно торжественно, в этюдах больше финтифлюшек. Прислушиваясь к тому, как пальцы Эрнеста петляют по клавишам, точно догоняя один другой, мистер Бантинг склонялся к мысли, что это фуга. Никакой другой образец серьезной музыки не вызывал у него такого отвращения, и он применял это название ко всем без разбора классическим произведениям, с особым же удовольствием к тем, которые казались ему самыми мерзкими.
Мистер Бантинг опустил газету, уставился на стену гостиной, откуда неслись эти проклятые звуки, и скорчил гримасу. «Почему Эрнест никогда не вспомнит те вещицы, которые играла «Гармоническая пятерка»? — удивлялся он. — Правда, джаз не сравнишь с хорошей старинной музыкой, но все же это куда лучше фуг».
— Фуги! — сердито сказал он вслух. — Мало нам приходится терпеть во время войны, а тут еще фуги слушай.
Ни жена, ни дочь не ответили ему. Джули сидела за столом в круге света, падавшего из-под плотного абажура, и писала письмо. Губы у нее были сжаты, голова склонена набок, и глядя на то, с каким старанием она выводила заглавные буквы, трудно было поверить, что за ее обучение заплачены большие деньги.
Миссис Бантинг делала что-то с обрывками цветной шерсти, лежавшей в ее рабочей корзинке, — что именно, он не мог понять. Она рассматривала каждый узелок со свойственной ей хозяйственностью и уделяла мужу не больше внимания, чем Джули.
Что касается Криса, то его еще не было дома; тщательность, с которой он занялся перед уходом своими зубами, прической, башмаками и галстуком, свидетельствовала о том, что ему предстоит свидание с Моникой Ролло. О развитии этого романа мистер Бантинг проведал каким-то нюхом; тот же нюх говорил ему, что он должен притворяться, будто ничего не знает об этих делах и думает, что Моника приходит в «Золотой дождь» просто как сестра Берта Ролло и знакомая всей семьи. Что ж, прекрасно! Улыбки по поводу отцовской слепоты (их он тоже замечал) были ничто по сравнению с теми, которые появлялись на его устах, когда домашние на него не глядели.
Покуда мистер Бантинг предавался подобным размышлениям, фуга кончилась. Наступила короткая тишина, и он снова занялся газетой. Но не надолго. Несколько аккордов, таких мрачных, что они были способны заморозить улыбки на устах всех герлс Конкрена, и Эрнест принялся за Бетховена. Этот композитор пользовался особой антипатией мистера Бантинга. Он считал его самой мрачной личностью из всех, кто когда-либо садился за рояль. Играя Бетховена, Эрнест словно исторгал душу у инструмента. Он гремел, нагромождая аккорды, словно выискивая среди тех, которые еще пребывали в блаженном небытии, самые мучительные, и потом переходил на тягучее адажио, давая запыхавшемуся Бетховену несколько минут передышки, прежде чем грянуть новую серию режущих ухо звуков.
— Прелесть, что за музыка! — сказал мистер Бантинг, выведенный, наконец, из терпения. Но его никто не слышал.
Весь трудный день он ждал этих вечерних часов у камина, и вот они пришли, а он сидит одинокий. Никто с ним не разговаривает: он точно какой-то автомат, который загребает деньги и приходит домой только перезарядиться. Читать ему не дают, его попытки затеять разговор не поддерживают. И мистер Бантинг вынул из кармана пухлую записную книжку с пометками по отделу, которая служила ему последним прибежищем в борьбе со скукой. Он раскрыл ее, и тотчас на пол полетели бумажки. Он читал их с большим вниманием и одну за другой бросал в камин. Это были записи расценок по системе Холройда, в которой мистер Бантинг так до сих пор и не разобрался. Считая, повидимому, торговлю железо-скобяными товарами делом не достаточно сложным, Холройд содействовал ее усложнению путем введения каких-то каббалистических знаков, вроде арифметической стенографии. Мистер Бантинг уже не первый раз принимался разбирать эти знаки, подходя, впрочем, к делу не как добросовестный исследователь, а скорее как предубежденный критик, сразу же задающий вопрос, на который никто не может ему ответить, а именно: на кой чорт все это нужно?
Быстро воспользовавшись одной из пауз Эрнеста, мистер Бантинг включил радио. Это был стратегический ход — стремительный захват неоккупированной территории тишины. Из радиоприемника выплыли три молодых женских голоса, живописно именовавшие себя «вокальным джазом», должно быть, для того, чтобы легче всучить этот номер Британской радиовещательной корпорации. Голоса были резкие, слишком резкие и молодые для таких нескромных любовных песен, которые не могли итти ни в какое сравнение со старинной «Жимолостью». Но мистер Бантинг не выключал радио, пользуясь им как заградительным огнем против фуг и показывая этим свое право развлекаться в своем доме по собственному усмотрению.