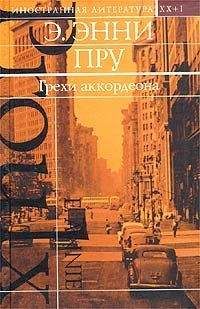Но все это в прошлом. Теперь старуха сидела одна-одинешенька в задней комнате, муж ее давно бросил, сын умер, в кухне царствует невестка, а внуки Раймунд и Джо уже взрослые мужчины, у Джо есть жена Соня и двое детей – ее правнуки Флори и Арти. Состроив каменную рожу, Дороти частенько жалуется, что Джо и Соня совсем ее забыли. Говорит, не приходят из-за черномазых, и не петрит дура, что виной тому – ее жуткая стряпня.
Вот-вот, Дороти, моргая своими блестящими голубыми глазками, умоляет их каждую неделю: приходите, говорит, в воскресенье, приходите в субботу, в пятницу приходите, в любой день, у меня вкусный обед (кроме борща из детского питания и фальшивого бифштекса она еще делала рыбу – из творога, баночного тунца, желе и черной оливки вместо глаза), берите с собой детей, мы посмотрим телевизор, но они никогда не приходили, а телевизор у них был теперь свой, портативный «Филко», и приглашения Дороти им как об стенку горох, разве что на Рождество они являлись к Opеatec Wigilijny [275] и к ужину, которым командовала старая, хотя она почти ничего уже не могла делать сама; однако на полуночную мессу в прошлом году они не пошли, и даже не постились, как поняла старуха по тому, что девчонка почти все оставила на тарелке, ныла, чтобы ей дали пиццу, теребила соломку от скатерти и требовала открыть подарки – при том ни Соня, ни Джо не сказали ей ни слова. У девочки такие же пепельные волосы, широкие скулы и курносый нос, как у Дороти. Мальчик – совсем другое дело, тут ничего не попишешь, он еще мал, а за девочкой нужно следить. Ведь взрослая, раз ходит в танцкласс и разучивает прежние танцы. Да, не такая уж маленькая – может держать в руках совок и веник.
Когда Джо был еще ребенком, старая миссис Йозеф Пжибыш рассказывала ему жуткие истории из прежней жизни. Другой ее внук, Раймунд никогда их не слушал – зажав уши руками, он убегал играть на улицу. О да, говорила старая женщина, она видела это собственными глазами, хоть и была тогда совсем молоденькой – эту ужасную мессу, когда в церковь в самый разгар службы ворвалась Мария Рекс, служанка их священника; распахнула двери, вся в крови, земле и огромных красных ссадинах, куски грязи летели с ее изорванного платья прямо на бордовый ковер. Отец Делаханти вздрогнул и сперва застыл с разинутым ртом, а потом развернулся и удрал в боковой приход. Мария еле-еле добрела до алтаря, закачалась и прямо там рухнула, но Людвик Симак и Эмиль Плиска успели ее подхватить; тогда бедняжка застонала и слабеющим голосом рассказала им ужасную историю, вся паства взобралась с ногами на скамьи, чтобы лучше видеть. Несчастная девушка поведала, что вот уже три года отец Делаханти заставлял ее ложиться с ним в постель, – проклятый ирландец! пронеслось по церкви, – и когда прошлой ночью она сказала ему, что беременна, от него, ублюдка, он бросился на нее с ножом и решил, что зарезал, выкопал в огороде неглубокую могилу прямо под египетским луком, у него еще такие тяжелые головки, как чесночные, но она пришла в себя, уже почти задыхаясь, выбралась наружу и вот пришла, чтобы все знали правду. Что тут началось! Мужчины громогласно требовали крови и оскопления преступного ирландского священника. Вся паства за неделю поседела, так что когда в следующее воскресенье собрались опять, можно было подумать, что это не церковь, а дом престарелых. Бедную девочку вымыли, вычистили и обласкали, но она родила уродца с головой, как морковка, и умерла от инфлюэнцы, когда ребеночку был всего месяц. На поминках играл аккордеон, хотя поговаривали, что это нехорошо, что аккордеон ее и сгубил – отец Делаханти был большой охотник до джиг и рил.
Отца Делаханти – громы небесные на его голову – никто с тех пор не видел, считайте, ему повезло. Утек, как вода. Наверное, устроился поваром или библиотекарем куда подальше, он знал толк и в хорошей кухне, и в книгах. Но скорее всего подрядился торговать корсетами, всегда можно протянуть руки и пощупать женские груди. Как раз в это время польские американцы восстали против ирландских священников и основали свое собственное польское католичество. Коль девушкам суждено страдать от попов, то пусть будут хоть свои, польские. Это если смотреть со светлой стороны, сказала миссис Пжибыш. А в наше время, и если с темной, то и не только девушкам.
– Ну и кого они теперь выбрали в президенты – ирландца. Мазилу, который думает, что можно рисовать банки с супом. – Она посмотрела мальчику в глаза и сказала, что лучше всего рисовать лошадей.
Иероним Пжибыш, также известный как Гэрри Ньюкамер
Прежде чем сбежать, старый Юзеф Пжибыш успел сводить своего сына Иеронима на игру в мяч. День выдался очень жарким, и продавцы в бумажных колпаках сновали вверх-вниз по трибунам, волоча за собой корзинки со льдом, звякая пивными бутылками и крича на весь стадион:
– Холоооодное, холооодное пиво, налетай, холоооодное. – Иерониму было позволено глотнуть шипучей жидкости из отцовской бутылки, но он не понял, что эти мужчины в ней находят, и очень быстро захотел писать.
– Пап, – позвал он, но отец беседовал с каким-то румяным дядькой о сигарах. Иероним подождал, потом пошмыгал носом, опять прошептал: – Пап, – потом еще раз; у него болел мочевой пузырь, а мозги расплывались, словно мыльная пена в корыте. В конце концов отец обернулся, наставив на него огромную желтую, только что зажженную сигару, сжал ее зубами и спросил:
– Чего?!
– Мне надо выйти.
– Господи Иисусе. Мне что, переть тебя целых полмили? Давай, – и протянул ему бутылку, в которой оставалось еще примерно на дюйм пива. – Дуй сюда, тут одни мужчины, кому какое дело.
Преодолевая стыд, Иероним попытался это сделать, но застывший пузырь не слушался, и, помучившись некоторое время, он застегнул джинсы. Как только голая плоть оказалась в тепле и темноте, пузырь вероломно расслабился, и на солнечный день обрушилась катастрофа. Горящее после затрещины ухо, мокрые джинсы, стук биты о мяч, рев толпы, мужчины скачут, как ненормальные, и, подавшись вперед, орут: ура, ура, так его! – вонь желтых сигар: после всего этого кошмара он всю жизнь предпочитал рыбалку бейсболу. Он вырос, возмужал, женился на Дороти, проработал сколько надо и умер, не увидав больше ни одной игры – но сигары все же курил с умеренным удовольствием.
После Второй мировой войны Иероним решил, что воскресенье создано лично для него, и в этот день, после целой недели в сталелитейном цеху, он имеет право себя порадовать. Его радость состояла из двух частей, иногда и из трех.
Рано утром, еще затемно, он доставал специальный электрический щуп для червяков и выходил с ним во двор, волоча длинный провод от тостерной розетки через подоконник наружу. Ударами электрического тока щуп добывал из-под земли червяков – «НЕВЕРОЯТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!» Иероним запихивал червей в банку от растворимого кофе, добавлял немного земли, брал удочку «Зирко» и отправлялся к одному из трех мостов, что пересекали их ленивую речку. Несколько часов подряд леска тянулась к воде, удочка упиралась в перила, а червяки пропадали из виду, теряясь в затянутых илом резиновых покрышках. Иероним курил сигареты и разговаривал с другими мужчинами, тоже собравшимися у перил; они называли его Гэрри, почти всех он знал еще со школы и с ними же встречался каждый день на работе или в польском клубе; мимо проезжали на велосипедах молоденькие девушки, podlotki [276], в реке плавали маленькие дикие утки, по мосту, шипя, проезжали грузовики и легковушки, слышалась негромкая музыка.
Изредка кому-то из рыболовов удавалось вытащить серую рыбку с черными узелками на вялых плавниках. Хозяин не выпускал ее из рук, пока остальные не рассмотрят, выслушивал насмешки и возгласы, затем бросал в воду, где она, тут же уплывала обратно под мост, или швырял на дорогу под колеса первой же машины.
– Куда? – спрашивал Иероним стоявшего рядом с ним Вика Лемаски. – Куда деваться этой рыбе, а? Под колеса! Будет что рассказать другим рыбам! Если сможет! «Посмотрите налево, посмотрите направо!»
Вик, который был туп, как собачья, а то и слоновья кость, отвечал:
– Чего скачешь, у козлов научился?
– Причем тут рыба на дороге?
Вик пожимал плечами и лез за бутылкой в коробку для рыболовных крючков.
Примерно в три пополудни, полупьяный Иероним сматывал удочки, опрокидывал в реку остатки червей и несколько минут наблюдал, как их ленточные силуэты растворяются среди плывущих по течению призрачных пластиковых пакетов и деревянных обломков.
Наступало время второй радости – польского клуба, где он пил, закусывал, курил, читал, болтал и смотрел телевизор ровно до десяти вечера, затем, шатаясь, добредал до дома и заваливался спать, чтобы подняться ровно в четыре утра по звонку будильника.
В польский клуб пускали только мужчин – его невезучий отец, старый Юзеф Пжибыш (ну и имена давали в этой их прежней стране), был одним из его основателей; в задымленном вестибюле лежали «Naród Polski», «Dziennik Chicagovski», «Dziennik Zwiеzkowy», «Dziennik Zjednoczenia», «Zgoda»[277], другие газеты и журналы на пяти или шести языках висели на специальных подвесках, имелась biblioteka – стеллажи с польскими книгами (с 1922 года ничего не переиздавалось), на стене – деревянная гравюра Адама Банша[278] и картина 1920 года с изображением разрушенной польской деревни, конных русских солдат, прикладывающихся к бутылкам и дымящих папиросами, куда-то разбегались кобылицы, мертвые окаменевшие поляки растянулись на земле; в подвале клуба располагалось кафе с мраморными, в прожилках, столиками и деревянными скамейками (правда, пиво теперь подавали не в стаканах, как полагается, а в новых алюминиевых жбанах, которые жутко громыхали и действовали своим лязгом на нервы), на стенах там болтались пожелтевшие афиши последних польских концертов, портреты певцов, приглашения на выставки, авторские встречи, фестивали, награждения, чествования погибших польских героев, и вперемежку с этим – загадочные кокосовые головы со свирепо вытаращенными осколками скорлупы вместо глаз, а у самого входа – громадная доска объявлений с кучей бумажек, оповещавших о сотнях мелочей – распродаже импортных сосисок, эмбарго на кубинские сигары, продаются два билета на матч Сонни Листон – Флойд Паттерсон [279].