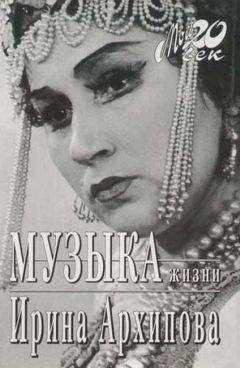Не откладывая в долгий ящик, я достал из кошелька стодолларовую купюру — из числа тех, что вручил мне Ловец для расчета со съемочной бригадой, — и отдал Николаю:
— Твой гонорар, чтоб после съемок друг за другом не бегать.
— Извини, возьму! — проговорил Николай, показав тем самым, что помнит о долге, но отдать его — это пока нет. — Не могу не взять. — Он забрался рукой за пазуху и засунул там деньги в какой-то карман. — В Чечню снова через два дня уезжаю, — произнес он затем — так, словно это известие должно было что-то мне объяснить.
Уже несколько месяцев, как в Чечне возобновились военные действия, вновь по телевизору в новостях каждый день сообщали о боях, убитых, раненых, подбитой военной технике, и все это — на фоне отснятых чеченских кадров: тех самых обездвиженных бронетранспортеров, сгоревших машин, лежащих трупов…
— Посылают? — зачем-то уточнил я.
— Чего ж не поехать, — сказал Николай. — Денег подзаработаю. Командировка, военные действия — по-человечески хотя бы платят. Долг тебе верну.
Невольно я почувствовал в себе нечто, похожее на радостное довольство.
— Вернешь — не откажусь, — сказал я.
Как мы выступили, что за прием нам оказали — вспоминать все это неинтересно. Все это неважно; важно ведь то, что прорастает и дает плоды, а то, что умерло в земле или проблагоухало пустоцветом, — это не просто несущественно, это изначально обречено на забвение. То, что произошло уже после самого выступления — вот что принесло плод, да еще такой увесистый хватило наесться всем.
— Потом, когда все закончится, подойдите к нам, — попросил меня Ловец перед выступлением. — Пусть ребята там все увозят, а вы останьтесь. Посидим вчетвером: мы и вы с Наташей.
Естественно, я не возражал. Мне и без того было до смерти любопытно, что это нынче за тип рядом с Ловцом. Я его про себя уже назвал ряженым. Он выглядел так, словно залетел в наши дни прямиком из какой-нибудь пьесы Островского про купцов первой гильдии. Высокий, фактуристый, с изрядным животом, заключенным в красную жилетку со множеством мелконьких перламутровых пуговичек, в распахнутом черном костюме из льющегося блеском какого-то атласного материала, со свежеподстриженной, свежеподбритой прихотливо-барочной формы бородкой, похожей на заботливо взращенный волосяной куст, но главное — выражение его румяно-свежего, из тех, про которые говорят «кровь с молоком», несколько обвисшего на щеках упитанного сорокалетнего лица: это было выражение полного, безграничного самодовольства, абсолютного самоупоения, ощущения такой денежной бездны под собой, которая самортизирует все, что может произойти в жизни дурного. И Ловец, которого я всегда знал как человека исключительной внутренней независимости, был в поведении с ним не то чтобы искателен и подобострастен, но проявлял ясно заметную предупредительность и особую почтительность.
— Кто это? — спросил я Ловца.
Он понял, о ком я. Мгновение, я видел, Ловец колебался, как мне ответить. Потом лицо его выразило решительность.
— Вы думаете, я денежный мешок, чтобы весь этот наш проект финансировать из собственного кармана? Это мой банкир. Без него я с места ничего бы не сдвинул. Все пока на его кредитах. Прекрати он сейчас меня кредитовать — я разорен.
Вот когда мне все стало понятно. Почему Ловец придавал такое значение этому выступлению, почему хотел, чтобы была телекамера, лупили светом прожектора, летал над головами оператор на кране, придавая выступлению особый блеск и шарм. В какой-нибудь «Манхэттен» или «Бункер», где мы светились до того, этому ряженому было пойти не по чину, он мог заявиться только в какое-нибудь достойное место, и вот это «заведение» было по нему. Ловец предъявлял ряженому тут товар, демонстрировал, на что тот откалывает деньги, — отчитывался перед ним.
— Почему вдруг он должен прекратить вас кредитовать? — проговорил я.
— Да я тоже так думаю, — отозвался Ловец.
Нога, проворно забравшаяся мне под штанину и принявшаяся ходить по голени, лаская ее, пытаясь защемить кожу большим и указательным пальцами, была так неожиданна, что я не сразу сумел понять, что это значит. Я сидел за столом минут пятнадцать, подойдя к нему немного спустя после Долли-Наташи, мы с ней едва успели загрузить в себя по коктейлю, а Ловец с ряженым загружались ими уже добрые два часа — пока шло выступление — и возбужденно раскраснелись, налились тяжестью и стали медлительно-плавны движениями.
Нога была Долли-Наташи, чья еще. Она сидела, небрежно покручивая между пальцами высокий бокал с новой порцией коктейля, и взгляд ее был устремлен нет, не на меня — на героя Островского. Ее ласка предназначалась не мне ему. Если бы ей хотелось проделать что-то подобное со мной, у нее была для того тысяча и одна возможность раньше. Просто она ошиблась. Перепутала ноги. Мы сидели с нею напротив друг друга, а с ряженым бок о бок, ему нравилось вытягивать ноги, и мне тоже, и сейчас, видимо, наши ноги были там под столом совсем рядом, — вот она и перепутала.
Долли-Наташа смотрела на героя Островского, а он не реагировал на нее. Зато вперился в нее взглядом я — и она, почувствовав мой взгляд, поняла свою ошибку. Нога ее отдернулась, глаза испустили в меня испепеляющую молнию.
— Ты только не воображай себе ничего! — понятно лишь для нас двоих проговорила она.
Я пожал плечами:
— Не воображаю.
Но теперь я знал о ее намерении. И когда глаза ряженого удивленно и радостно замерли, замер он весь сам, превратившись в подобие соляного столба, я понял, что нога ее наконец достигла правильной цели.
— Что? — спросила она ряженого с самым невинным видом — не знать, что делает ее нога под столом, ни за что не поймешь истинного смысла ее вопроса. А глаза Долли-Наташи, видел я, обещали этому герою Островского много больше, чем тайная подстольная ласка. Она его заманивала, завлекала — обольщала.
Вот так же, наверно, обольщала она и Ловца в Томске. А если и не совсем так, то как-нибудь похоже.
Надо заметить, у нее это получалось отменно. В ней не было и тени неуверенности в своей женской силе. Она подавала себя как какая-нибудь царица Савская. Как Клеопатра. Екатерина Вторая. В чем она, несомненно, была талантлива, так в этом — искусстве обольщения, вот уж точно.
Что я мог сделать? Что предпринять, чтобы защитить интересы друга, не предать его и не повредить ему в его отношениях с этим героем Островского?
Когда она спустя какое-то время встала и отправилась в туалет, немного погодя поднялся и я.
Я нес вахту около женской комнаты уединения, пока Долли-Наташа не появилась оттуда. Она появилась — и я набросился на нее:
— Ты что творишь, дура?!
Долли-Наташа попыталась обойти меня — я ей загородил дорогу.
— На кой черт тебе этот тип? Ты же сама себе все испортишь! Ваши отношения с Сергеем. Свою карьеру. Перестанет он завтра деньги в твой проект вкладывать — что будешь делать?
Долли-Наташа пожала плечами.
— А, какие у Сереги деньги! Вот если, как ты говоришь, этот тип перестанет завтра деньги давать, тогда точно: делай карьере ручкой.
— Да с какой стати он перестанет?
— А вдруг? Что мне, зависеть от его левой ноги?
— А ты бы хотела не от ноги?
В козьих глазах Долли-Наташи появилось то же испепеляющее злобное выражение, как за столом, когда она осознала, что ошиблась адресатом своей ласки.
— Вот именно, — процедила она, — не от ноги. Я сказала, что буду звездой, и буду.
— Да ты что, — медленно проговорил я, не желая слышать ответа на свой вопрос и не видя возможности не задать его, — ты хочешь бросить Сергея, что ли?
— Посмотрим, — не замедлила она с ответом. — Тебя только все это не касается. Не лезь ни во что. Все равно ничего не изменишь. Другу своему только сделаешь хуже.
Какая Одри Хепберн! Никакой Одри Хепберн тут и не пахло. Это была жадная, тупая, гнусная коза.
Около нас возник охранник — с лицом не знающего сомнений робота из голливудского фантастического фильма.
— Господа артисты, все выяснения отношений — за стенами клуба. Иначе будем вынуждены вас удалить.
— Видишь? — безмятежно развела руками Долли-Наташа. — Никаких выяснений.
Около писсуара я провел такое количество времени, которого бы мне хватило, чтобы опорожнить десять мочевых пузырей. Я решал для себя вопрос, говорить ли Ловцу, что мне открылось, или внять совету Долли-Наташи. Не говорить было подло, сказать — может быть, еще подлее.
Скорее всего, я решил тогда: будь как будет.
Я действительно не помню точно, что я решил. Но, вернувшись к столу, я ничего не сказал, а только залпом опрокинул в себя второй коктейль и довольно скоро уговорил третий. Я напился там, в этом «заведении». Что, как уже поминал, случается со мной не слишком часто. Я хотел забыться. Кажется, я хотел снова стать маленьким. Не ребенком, нет — младенцем. И не младенцем — плодом в материнской утробе. И не рождаться.