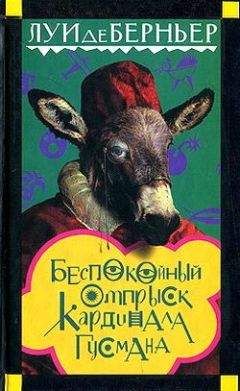Аурелио подошел к дому Летиции Арагон и негромко постучал. Она тотчас открыла, представ в первозданной наготе, будто знала, что гость не удивится. Аурелио любовался ее красотой: глаза у нее были сейчас сине-зелеными, как морская вода, чудесные темные волосы ниспадали на плечи, привычно их лаская. Внезапно он подумал: «А не Петиция ли мать Парланчины?» – и непостижимость всего совершенно его смяла. Губы Легации тронула слабая улыбка:
– Я знаю, что снова беременна.
– У тебя будет первая девочка от Дионисио, которую назовут не Аникой.
Летиция кивнула и, пригласив Аурелио в дом, сказала:
– Дионисио вздохнет свободнее.
– Еще одно, – прибавил Аурелио. – Девочка родится с ребенком во чреве, и ребенок этот появится на свет еще до того, как она познает мужчину. Но его отец – еще не родившееся дитя Франчески, которого назовут Федерико. Ты понимаешь?
Летиция кивнула.
– Во сне мне явился Ошун в образе Наимилосерднейшей Богоматери. Я сделаю, как она велела, и назову девочку Парланчиной.
55. Сибила обретает упавшую корону и облачается в одежды из света
«О святой Николас, поднявший из мертвых троих детей, что захлебнулись в лохани с рассолом! О святой Квентин, пощадивший вора и оборвавший веревку палача! О святая Рита, четырежды совершавшая невозможное! О святой Косьма и святой Дамиан, вы, кому не причинят вреда ни огонь, ни воздух, ни вода, ни крест! Попросите Богородицу и Господа нашего сделать так, чтобы ее пощадили! Аминь. Господи, прости».
Эту молитву я много раз повторял у себя дома в ту ночь, когда не мог спать от боли и ужаса, от того, что предал Сибилу. Вера моя не глубока, и пустые слова шли не из души, Бог не слышал их, но я молился, потому что больше обратиться было не к кому. Я понимал, что молитвой обманываю себя, но она помогала скоротать ночь, когда, свернувшись калачиком на полу, я лежал без сна в пустой комнате, откуда вынесли даже кровать. Я узрел ад – его каждому поколению доводилось видеть. Мои родители видели его во времена Произвола, а их родителям ад предстал в гражданскую войну. Старая пьеса, только актеры другие; я задавал себе тот же вопрос, что и мои родители: «Что же с нами случилось, если мы гадим в раю?»
Все эти дни я не приближался к церкви, поскольку знал – там Сибила. Не выходил из дома и ждал, что она признается, ее отпустят, и она придет ко мне. Я искал слова, чтобы вымолить у нее прощение. Говорил их вслух, пробовал так и этак. Есть было нечего, все съестное забрали. Но в дверь так никто и не постучал. Стояла тревожная тишина, нарушали ее лишь клекот дерущихся стервятников, грубые шутки пьяных охранников и бесконечные песнопения священников на площади. И была только боль, что ураганом ревела в моей душе.
Через несколько дней песнопения раздались у моего дома, и мимо прошли священники со свечами и зеленым крестом. Я уже достаточно их изучил и понял: завтра устроят еще одно аутодафе; сердце у меня скакнуло: может, удастся разузнать, что они собираются делать с Сибилой. Той ночью я раз за разом читал свою молитву и думал: «Может, я утомлю святых, и они уступят моей просьбе?» Мне приснилось, что мы с Сибилой стали любовниками. Жестокий сон – проснувшись, я был счастлив.
На аутодафе со всего поселка согнали уцелевших детей. Их заставили поклясться, что они будут исповедоваться на Пасху, Рождество и Троицу и останутся непоколебимы в вере. Сердце сжималось при виде чумазых мордашек заплаканных детей – избитых, голодных и осиротевших. Монсеньор снова был в пурпурных одеждах; дымилось огромное кадило, чтобы перебить трупную вонь.
Когда детей увели, подъехал трактор с прицепом. Это был трактор Патарино. Прицеп доверху набит трупами, но не новых убитых. Давнишние мертвецы: сморщенные, разложившиеся тела с почерневшей кожей на желтых костях, все в земле; сквозь прогнившие доски гробов торчали ломкие космы. Что-то замкнулось у меня в голове, и я вдруг понял: крестоносцы выкопали покойников, про которых я сказал на допросе, что они исповедовали сантерию; наверное, без разбору раскопали еще и других. Я смотрел на мертвецов не отрываясь; гротескность смерти чем-то завораживает. В голове не укладывалось, что эти нелепые карикатуры на человека взаправду были когда-то людьми, что они – чьи-то друзья и родственники. Я чуть ли не обрадовался, что мои родители погибли еще во времена Произвола, и их бросили гнить в холмах. Разве теперь скажешь, кто их убил – консерваторы или либералы? Но я хоть знал, что их не вытащили из могилы и не бросили в этот клубок мертвецов.
Монсеньор и священники ушли в церковь, а охранники выкопали глубокую яму и установили в ней столб. Обложили валежником и вязанками хвороста, потом стали сбрасывать в кучу куски трупов. При этом охранники отпускали шуточки вроде: «Глянь-ка на эту, не желаешь впендюрить ей всухую?» – или: «Ух, ты! У этой зубов нет, небось классно сосала!» Поставив одного своего смотреть, не идут ли священники, они стали клешами выдирать у мертвецов золотые зубы. Отламывали пальцы, чтобы снять кольца. Суставы ломались с сухим хрустом, будто хворост трещал, но жилы поддавались с трудом, и охранники дергали и выворачивали мертвецам руки. Гору костей облили бензином, и я все понял: они хотят сжечь еретиков за былые прегрешения, словно грешники уже не подверглись Божьему суду.
От всего этого я чуть не забыл про Сибилу. Но тут ее вывели из церкви. Впереди шел Непорочный.
Наверное, нужно сказать, что сами священники не пытали узников и не исполняли приговоры, всю грязную работу делали охранники.
Где взять силы, чтобы говорить об этом? Не помню, сказал я или нет, что охранники делились на отряды и у каждого были свои способы. По-моему, те, кто допрашивал Сибилу, назывались «агатисты». То есть подвергали жертву мукам святой Агаты. Это кощунство, но у охранников находились оправдания. Они говорили, что еретик оскорбляет пострадавших за истинную веру святых, а потому те, кто этого действительно заслуживает, должны пострадать во искупление. По-моему, это просто отговорка.
На Сибилу надели черное санбенито, ярко разрисованное бесами и языками пламени, оно все пропиталось кровью. Шла Сибила с большим трудом, ее поддерживали два охранника. Полузакрытые глаза, голова свесилась на грудь, руки на плечах разбойников – все напоминало Снятие с креста или Празднование тела Христова. Волосы падали ей на лицо – совсем как прежде, когда она склонялась над книгой или варила кофе. По ногам струилась кровь, и в дорожной пыли темнели лужицы. Она была чуть жива. Поверьте, сердце у меня разрывалось, но я и шевельнуться не мог.
Непорочный вышел вперед и знаком призвал к тишине. Он произнес длинную проповедь, из которой я не помню ни единого слова. Скажу лишь, это была мерзость, но так расцвечена и приукрашена, что вполне могла сойти за возвышенную речь. Потом он зачитал длинный список тех, чьи трупы подлежат сожжению, а собственность – конфискации у наследников; они забирали все у всех.
Монсеньор кивнул охранникам, чтобы подвели Сибилу, и я понял: они хотят сжечь ее вместе с мертвецами. Охранники подтащили Сибилу, ее волочившиеся ноги оставляли кровавые следы. Вам известно, через что прошла святая Агата? Ей ножницами для стрижки овец отрезали груди, ее катали по острым черепкам и горячим углям, но она умерла еще до костра. А Сибила, претерпев те же муки, была жива. Я зарыдал, но глаз не закрыл и смотрел на результат своей трусости и предательства, смотрел, как теряю ту, кого люблю больше всех на свете.
Сибилу привязали к столбу; вокруг громоздились мертвецы, плыла бензиновая вонь. Монсеньор подошел к ней:
– Ты отрекаешься? Если отречешься, тебя милосердно удавят перед сожжением. Во что веруешь?
Сибила подняла голову, и на миг мне стало легче – я думал, она уже умерла. Голос ее был слаб, но говорила она очень ясно:
– Верую, что мир создан дьяволом. Верую, что по избавлении надену одежды из света и увижу лицо Господа. Верю, что я – ангел. – Она взглянула в лицо монсеньору и добавила: – Верю, что ты был ангелом.
Она подчеркнула слово «был», словно говоря, что душа легата погибла безвозвратно. Уверен, монсеньор ее понял, он растерялся и не знал, что сказать. Будто случайно посмотрелся в зеркало, а там его совесть. Повисло долгое молчание. Монсеньор отошел.
Когда охранники стали поджигать факелы, Сибила в последний раз подняла взгляд и увидела меня. Этот взгляд поразил в самое сердце. Она меня не винила. Видела мои бессильные слезы и жалела меня. Сибила печалилась о том, кто меньше всего заслуживал ее жалости. Я упал на колени и молитвенно протянул к ней руки, чтобы она поняла – я молю о прощении, и она мне улыбнулась, нежно, как ребенку. В улыбке было столько любви и грусти, словно Сибила вспоминала меня. Она тихонько покачала головой, словно мать, что корит дитя за шалость, и я понял, она говорила мне: «Как же ты мог так обо мне подумать? Разве стала бы я притворяться и виниться? Неужели, по-твоему, я не могу постоять за правду?»