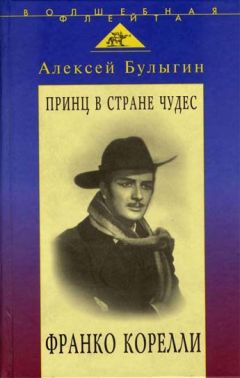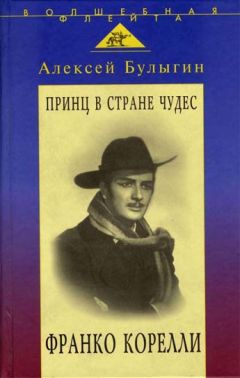Он был таким старым, что пол просел к земле, а внутри ничего не было, кроме ржавой кастрюли и двух зеленых бутылок. Обрешетка крыши растрескалась, покосилась, и черепица опасно прогибалась. Пахло в нем мхом, жимолостью и стариковской одеждой, а между камнями, в тех местах, где давно высыпался раствор, пробивался свет. Они называли его «Casa Nostra»,[143] иногда подметали пол веником из прутьев и с радостью делили его с небольшим выводком осмотрительных летучих мышей и тремя семействами ласточек. В этом тайном домике они расстилали коврик и лежали, обнимаясь, целуясь и разговаривая, а капитан время от времени играл на своей мандолине.
Он исполнял ей – обычно в мелодраматическом ироничном стиле – сентиментальные песни забытых времен; он понимал, что голос у него не сильный, и просто хотел рассмешить ее:
Alma del core, spirito dell'alma
Sempre constante, t'adorero
Saro contento nel mio tormento
Se quel bel labro baciar potro…[144]
Когда от вина ей становилось фривольно и легко, он пел:
Danza, danza fanciulla, al mio cantar;
Danza, danza, fanciulla gentile, al mio cantar.
Gira legera, sotile al suone, al suone del ondo del mar…[145]
И в самом деле, издали доносился шум моря, а Пелагия комически вальсировала по избушке, выделывая пируэты и хихикая, призывно надувала губки, изображая военных шлюх, которых так часто видела, корчила рожицы и посылала воздушные поцелуи солдатам, с грохотом проносившимся мимо на грузовике.
Временами Корелли охватывала грусть, он становился сентиментальным, размышляя над извечной невозможностью их преданной любви, и его светлый тенорок наполнялся трагическим звучанием, от которого подкатывали слезы – если не к глазам Пелагии, то к его собственным. Это было «время плакать», и он пел «Donna non vidi mai…»[146] не потому, что она была печальной – такой она не была, – но оттого, что это пелось «анданте ленто» и здесь был простор для максимального выражения «con anima»[147] в припеве «Manon Lescaut me chiamo».[148] Все их любовные разговоры начинались словами «после войны».
«После войны, когда поженимся, мы будем жить в Италии? Там есть чудесные места. Отец считает, что мне там не понравится, но мне понравится. Пока я с тобой. После войны, если у нас будет девочка, мы сможем назвать ее Лемони? После войны, если у нас родится сын, мы должны будем назвать его Яннис. После войны я буду говорить с детьми по-гречески, а ты можешь говорить с ними на итальянском, и так они вырастут двуязычными. После войны я напишу концерт и посвящу его тебе. После войны я выучусь на доктора, и мне безразлично, что женщин не допускают, я всё равно это сделаю. После войны я получу работу в женском монастыре, как Вивальди, буду учить музыке и все девочки влюбятся в меня, а ты будешь ревновать. После войны давай поедем в Америку, у меня родственники в Чикаго. После войны мы не будем воспитывать наших детей в какой-то религии, они сами решат, когда повзрослеют. После войны у нас будет свой мотоцикл, и мы поедем по всей Европе, ты сможешь давать концерты в гостиницах, и на это мы будем жить, а я начну писать стихи. После войны я достану мандолу, чтобы играть музыку Для альта. После войны я буду любить тебя, после войны я буду любить тебя, я буду любить тебя бесконечно – после войны».
На вершине горы Энос Алекос поднялся на рассвете со своей постели из шкур и напомнил себе, что нескольких коз нужно доить получше, если он хочет сделать хоть немного сыра. Но прежде всего пора выйти с ружьем и проверить, все ли его подопечные на месте. Совсем недавно там были люди, называвшие себя «боевиками», – они появились из ниоткуда и пытались украсть его коз. Он уже пристрелил двоих и оставил их тела стервятникам.
Алекос не понимал этого. Такого не случалось со времен его прапрадеда – с тех дней, когда боевики назывались грабителями. Ну ничего, благодаря похитителям коз он приобрел два новых ружья и много патронов и очень сильно сомневался, что боевики когда-нибудь вернутся. От человека требуются невероятные упорство и выносливость, чтобы взобраться на эту гору, и, возможно, он пристрелил тех, у кого самые сильные ноги и легкие.
Возможно, это как-то связано с войной. Он и раньше заприметил, что, наверное, идет война, потому что иногда по ночам все небо освещалось далекими прожекторами и очень часто видел вспышки ружейного огня, которые сопровождал далекий грохот. Восхитительно и увлекательно было сидеть ночью перед хижиной, смотреть на фейерверк и есть сыр, обмакивая его в оливковое масло с чабрецом. Он чувствовал себя не так одиноко и грустно мечтал, чтобы война закончилась не раньше праздника святого. Когда на гору пришел доктор, то подтвердил, что на самом деле идет война, и сказал, что некоторые голодают так ужасно, что ребятишки вырастают прямо в маленьких старичков с жидкими бороденками и сутулыми спинками. Казалось, желудки говорят им, что незачем беспокоиться о юности, и, похоже, скоро мать-природа присмотрит за тем, чтобы малыши выходили из своих матушек уже заколоченными в ящик.
Когда над головой рычали «либерейторы», он не обращал на них особого внимания, потому что летали они часто, парами или тройками, исчезая, как шумливые летучие мыши, в направлении материка.
Но на этот раз, наверное инстинктивно, Алекос взглянул вверх и увидел зрелище исключительно красивое. Вниз плыло что-то вроде белого гриба с подвешенным к нему крохотным человечком; изумительнее всего было то, что восходящее солнце отражалось в шелке, пока над горизонтом не превратилось в нечто больше, чем просто накаляющийся шар. Алекос поднялся на ноги и зачарованно уставился на гриб. Наверное, это ангел. Явно в белом. Алекос перекрестился и напрягся, вспоминая молитву. Он никогда не слыхал, чтобы ангелы плавали по воздуху под грибами, но кто его знает? Похоже, к тому же у ангела был большой камень, а может – тюк, что свисал с ног на веревке.
Ангел изо всех сил дергал за конец бечевок, которыми был приторочен к грибу, и в последнюю минуту показалось, что он спускается так быстро, что непременно разобьется. Алекосу стало приятно, что он оказался прав: ангел шмякнулся о землю с глухим стуком, упал набок, треснулся головой о камень, и его потащило по земле, а встречный ветер вздымал шелк. Схватив одно из своих ружей, пастух побежал туда; лучше убедиться – возможно, даже ангелы сейчас так голодны, что пристрастились воровать коз.
Ангел был весьма краснолиц, он весь запутался в веревках и тонкой материи гриба. Алекос взвел курок и нацелил ружье прямо в ангельское лицо. Тот открыл глаза, произнес, учтиво глядя на него: «Эй, там!» – и тут же уснул.
Алекосу потребовалось некоторое время, чтобы выпутать ангела из тесемок и шнурков, и он подумал, что из удивительной ткани гриба выйдет роскошнейшая простыня. В ней имелось остроумное отверстие посередине – таким образом, гриб можно будет носить как широкую одежду. Алекос решил, что наденет его на праздник святого, если ангел отдаст ему ткань и позволит обрезать бечевки.
Он перенес небесного гостя в свою хижину и пошел распаковать упавший с ним тюк; внутри были тяжелая железная коробка с циферблатом и небольшой мотор. Алекос, безусловно, был глуповат и решил, что ангел, наверное, принес мотор, чтобы построить себе что-нибудь вроде машины.
Два дня он кормил его медом с простоквашей и другими лакомствами, которые считал подходящими для такого создания из другого мира, и был несказанно рад, когда тот начал садиться, почесывать голову и разговаривать.
Беда только в том, что Алекос не мог ничего разобрать. Некоторые слова он всё же узнавал, но ритм ангельского наречия был ему совершенно незнаком; казалось, что слова друг с другом не соединяются, и говорил тот так, словно в горле у него была галька, а в носу пчела. Ангел был явно раздосадован и огорчен тем, что его не понимают; это пугало Алекоса, и он чувствовал себя виноватым, хотя никакой его вины не было. Пришлось общаться жестами и гримасами.
Больше всего интриговало в ангеле то, что, когда он хотел поговорить с Богом или кем-то из святых, то возился со своей железной коробкой и производил множество увлекательных воев, шипа и треска. А потом Бог отвечал на ангельском наречии – так далеко и неестественно, что Алекос впервые понял, насколько трудно Богу сделать так, чтобы хоть кто-то его услышал. Он начал узнавать часто повторяемые слова, вроде «чарли», «браво», «уилко» и «роджер».[149] Небесное создание удивляло еще тем, что у него имелись легкий автоматический пистолет и несколько очень тяжелых железных сосновых шишек защитного цвета с металлическими рычажками, до которых Алекосу дотрагиваться не разрешалось. Все ангелы, которых он видел прежде на картинках, несли мечи или копья – странно, что Бог счел нужным провести модернизацию.
Через четыре дня ангел проявил явные признаки желания куда-то пойти, и Алекос, поборов неохоту оставлять коз ворюгам-боевикам, ткнул себя в грудь, улыбнулся и показал, что ангел должен следовать за ним. Тот воспринял это с благодарностью и дал ему шоколадку, которую Алекос съел в один присест, испытав потом легкую тошноту. Однако, ангел не желал идти при дневном свете, и Алекосу пришлось ждать до сумерек. Ангел захотел также обменять свою тесемочную кипу на большую козью шкуру. Для Алекоса это была лучшая сделка в жизни, и он с готовностью согласился, несмотря на то, что чувствовал себя немного виновато: казалось, он надул ангела, хоть и непреднамеренно, и с согласия сторон. Ангел упрятал в козью шкуру свою железную коробку и моторчик, перевязал шнурком и перекинул через плечо.