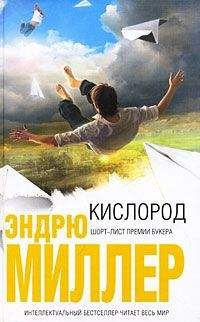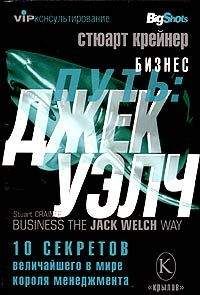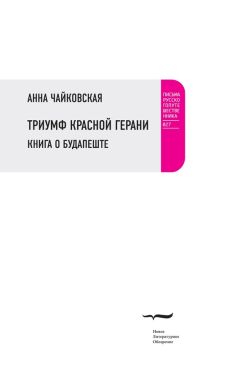Она вручила ему конверт из плотной глянцевой бумаги, в котором лежали билеты, и, поскольку на этом ее обязанности закончились, ее порыв профессионального восторга угас. Ларри попрощался и положил билеты в карман. До рейса оставалось пятнадцать минут. Он проглотил без воды розовую таблетку занакса и поспешил к своему выходу мимо выстроившихся в аккуратные очереди пожилых туристов (тайваньцы? корейцы?), спрашивая себя, как отреагировала бы девушка у стойки, если бы в порыве откровенности он выложил ей всю правду о том, куда он летит и зачем. Он представил, как она нажимает секретную кнопку тревоги у себя под столом и его уводит служба охраны аэропорта, и, впихнув в кабинет с зеркальными стеклами, совладав с его бешенством, надевает на него наручники. А может, он недооценил ее. Кто знает, какова ее личная жизнь, какие драмы переживает она, когда вечером возвращается с работы домой? В ее возрасте по лицу мало что угадаешь. А как еще?
Рейс был точно по расписанию — забит под завязку, как всегда в середине дня. Деловитые пассажиры гуськом входили в салон и усаживались на свои места, выключая мобильные телефоны. Некоторые тут же начинали брифинги с коллегами — для Ларри их разговоры были просто бессвязным бормотанием, странной смесью конторского сленга и эвфемизмов. Особи помоложе восхищали превосходной физической формой, как будто все, как один, были членами дорогих спортклубов — так оно, скорее всего, и было. На некоторых были элегантные очки; многие захватили с собой портативные компьютеры. Но больше всего их объединяло сознание цели: они принимали решения, двигали горы и потрясали основы основ, и по сравнению с ними он — бывший спортсмен и бывшая звезда мыльной оперы — был чем-то вроде безделушки на книжной полке, барочной завитушки.
Рядом с ним — а он-то надеялся, что это место никто не займет! — в последний момент села женщина с маленькой девочкой. На женщине было длинное мешковатое черное платье с этническими узорами и похожая на клобук шапочка, из-под которой на лоб выбивалась пара густых каштановых кудряшек. Искоса посматривая на нее, пока самолет выруливал на взлетную полосу, Ларри определил, что она намного моложе, чем казалась на первый взгляд: лет двадцать пять — двадцать шесть, хотя словно нарочно одета так, чтобы выглядеть старше и менее привлекательно, — вся в загадочных напусках и складочках, возможно придуманных, чтобы оградить себя от излишнего контакта с внешним миром. Девочке у нее на коленях было годика три-четыре, она была худенькая, вялая, болезненная на вид, с самыми темными и грустными глазами на свете.
Он приветливо улыбнулся женщине, которая, вместо того чтобы улыбнуться в ответ, сказала:
— Ну вот, рвота, — с таким густым нью-йоркско-еврейским акцентом, что Ларри сначала решил, что это, должно быть, имя девочки, и начал перебирать в уме отважных героинь Ветхого Завета, пока женщина вытаскивала из кармана на спинке переднего сиденья гигиенический пакет.
— Надеюсь, ее не вырвет на вас, — сказала она таким тоном, будто, случись такое, виноват был бы он сам.
Девочка у нее на коленях заерзала.
— Хочешь вырвать? — спросила мать и, решительно положив руку ей на затылок, ткнула личиком в пакет — прошла не одна минута, прежде чем девочка оттуда вынырнула, до смешного несчастная, скорчившись от отвращения, и на обеспокоенный взгляд Ларри ее глаза ответили смесью враждебности, усталости и робкой мольбы. Он сочувствовал ей, думая, что понимает ее разочарование во всех и вся, и когда они летели над потертой Калифорнийской пустыней, а кромка побережья справа по борту сверкала лазурью и перламутром, он изо всех сил старался заставить девочку улыбнуться — игра, в которую он часто играл с Эллой, отличавшейся такой же серьезностью и раздражавшим его мистическим знанием сути вещей, что и эта бледненькая еврейская девочка.
На всех детских фотографиях, большая часть которых так и осталась в «Бруклендзе», был ли он запечатлен на фоне сада, переливающегося радужными цветами пленки «Кодак», или на фоне яркой зелени спортивной площадки, или плечом к плечу с Алеком на море в Бретани или в Ирландии, везде на его лице сияла неизменная широкая улыбка. Даже когда он стал подростком, готовым по любому пустяку громко хлопнуть дверью, а кожа у него вокруг рта целый год саднила от неумелых попыток бриться, его лицо никогда не переставало выражать добродушный оптимизм паренька, который отлично ладит со всем миром. Несчастные дети и даже дети, только казавшиеся несчастными, будили в его очень легко поддающемся внушению сознании призрак тьмы, от которого даже невинность не могла защитить и с которым он продолжал упорно, даже немного отчаянно вести борьбу.
Девочка наблюдала за ним, выглядывая из-за черных складок на материнской груди, — сначала украдкой, а потом посмелее, когда мать отвлеклась, требуя у стюардессы отыскать на тележке с закусками пакет чипсов с буквой «К» — «кошерный». Ларри сморщил нос, поморгал, скосил глаза, нахмурился, подражая девочке, но все это не произвело никакого впечатления. Она еще больше насупилась в ответ на его гримасы, выказывая поистине царственное неодобрение, и он начал сначала, на этот раз осторожно добавив номер с отрыванием большого пальца — один из любимых фокусов Эллы, — но только когда самолет заложил вираж над побережьем, разворачиваясь в сторону Лос-Анджелеса, а внизу потянулись акры аккуратных домиков, автострады и сверкающие на солнце потоки машин, она соизволила наконец развеселиться, и ее лицо засияло такой лучезарной улыбкой, что ему пришлось отвернуться. Он посмотрел на свои руки (на левой — обручальное кольцо, правая, которой он когда-то держал ракетку, до сих пор в буграх мускулов) и заговорил сам с собой, заговорил, спрятавшись за маской собственного лица, освобождаясь от страха, что он вот-вот совершит — в этом чрезвычайно общественном месте — что-нибудь совершенно неподобающее. Расхохочется, как гиена, или скрючится в проходе, или погладит один из каштановых завитков над бровями у матери девочки — что-нибудь такое, что наверняка будет иметь потрясающие последствия. Конечно, это было частью нового напряжения, новой дерзости, которую он готовился совершить, и это вынуждало его постоянно следить за собой и себя одергивать. Но особенно сильно его тревожило все более настойчивое чувство протеста, стремление к разоблачению, импульс, чей истинный смысл оставался для него неясным, но который, как в свое время для его отца, мог стать для него разрушительным.
Одна из стюардесс с лицом, одеревеневшим от избытка косметики и усталости, сидевшая на откидном сиденье у аварийного выхода, наблюдала за ним без тени сочувствия и, казалось, собиралась что-то сделать, но они резко пошли на снижение, самолет уже летел вровень с крышами зданий аэропорта, и времени оставалось только на то, чтобы наскоро помолиться («Боже, не дай нам разбиться и умереть…»).
Деловые люди напряженно выпрямились, держа пальцы на кнопках мобильников, готовые их включить. На кухне что-то упало; кто-то натужно засмеялся. Когда они коснулись земли, девочка снова нырнула личиком в пакет.
Над некоторыми словами и на полях Алек острым карандашом делал пометки. При свете ветроустойчивого фонаря (в самую безветренную из ночей) он нота за нотой познавал музыку новой пьесы, и, теперь, когда в его голове наконец-то улеглись посторонние мысли, слагал близкую к тексту, подражательную песнь перевода.
Он не был знаком с Ласло Лазаром и знал, как тот выглядит, по фотографии, вырезанной из журнала «Санди телеграф», на которой был изображен хрупкого сложения человек с коротко подстриженными седыми волосами и большими глазами — их зрачки поражали яркостью и глубиной. Была зима, и Лазар стоял на берегу пруда в Люксембургском саду — Алек частенько забредал туда во время своих одиноких прогулок в тот год, который провел за границей в Cite Universitaire[12]. Но особый флер снимку придавал сверток, который Лазар держал в руках, прижимая к серому пальто. Может, книга или что-нибудь из ближайшей кондитерской, воскресный торт например, но из-за этого свертка вид у него был немного конспираторский, как у анархиста девятнадцатого века, который направляется подложить бомбу в редакцию реакционной газеты. Это вместе с глуповатым заголовком: «В молодости Лазар умел держать в руках автомат», — утвердило Алека во мнении, что драматург был романтическим героем с таинственным, полным опасностей Прошлым, какого у него самого никогда не было и не будет.
Миллионы людей отдали жизни за то, чтобы мир стал таким, каким его знал Алек. Это ему повторяли в школе каждое Поминальное воскресенье перед тем, как протрубит горн и шеренги мальчишек замрут в молчании — их уже не попросят сыграть свою роль, потому что это сделали за них другие, другие положили свою жизнь, как покровы из парчи и шелка на алтарь свободы, чтобы, по крайней мере в Англии, диссидентов не увозили по ночам в камеры пыток и старушка демократия могла и дальше мирно дремать после обеда. И в этом было великое достижение, триумф, потому что не было человека, который не знал бы, потому что видел сам или по рассказам, что война — это ад. Он дважды — один раз по телевизору, другой раз по видео — смотрел документальный сериал «Воюющий мир», в котором Лоуренс Оливье рассказывал об ужасах русского фронта, Хиросимы, концлагерей. В более современных примерах тоже не было недостатка. Иран и Ирак. Афганистан. Чечня. Бесконечные войны в Восточной и Центральной Африке. Войны, подобные «Буре в пустыне», которые велись с хрестоматийной жестокостью, сопровождаемые пресс-конференциями и выступлениями генералов из Центрального штаба. Войны, полные неописуемого кровопролития, в которых сосед убивал соседа, как те, что с таким трудом прекратились в Хорватии и Боснии. Война так и осталась основополагающим занятием для огромной части земного шара. Но Алек жил в Англии и наблюдал эти бросающие в дрожь бесконечные картины насилия, от которых жителям всей Британии хотелось блевать, с безопасного расстояния, в воскресных выпусках новостей. И он понимал, что должен быть за это благодарен. Его расстраивало, что люди гибнут в дорожных авариях. Когда торговец рыбой при нем начинал чистить свой товар, к горлу у него подкатывала тошнота. Он был изнежен и постоянно простужался. Его линией фронта стали те четыре года, что он проработал учителем французского в государственной школе в южной части Лондона, в конце срока (в один особенно черный вторник вскоре после рождественских каникул) он просто сбежал. Но он так и не освободился полностью от наивной мечты, в которой сражался на баррикадах плечом к плечу с таким человеком, как Ласло Лазар, или бежал под огнедышащим небом вместе с дедушкой Уилкоксом, вынося с поля боя истекающего кровью товарища. Было до смешного обидно сознавать, что у него никогда не будет фотографии, на которой он стоял бы, исполненный достоинства, на Тутинг-Коммон, с подписью: «В молодости Валентайн умел держать в руках автомат». Он не был создан для такой жизни.