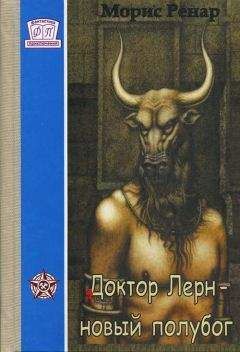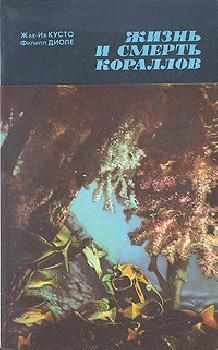Могу лишь сказать, что с тобой я чувствую больший контакт, чем с Моной. Не пойми меня превратно. Я испытывал к Моне сильные чувства. К тебе нет. Но мне нужно говорить с тобой. Ты хорошо делаешь свою работу. С тобой — это как войти в пустое помещение и заняться сексом с незнакомой женщиной. Фигурально выражаясь, разумеется. В сущности, я никогда не представляю тебя без одежды. Могу представить тебя спящей только в одежде. Кажется, это называется платоническими отношениями, Шарлотта. Пока что я от тебя завишу, как зависел от своих Барби при жизни Моны. Что же я за человек?»
* * *
Ее привели в гостиную, поставили перед гостями. Надо было сказать им что-нибудь, она заранее подготовилась, но все пошло не так. Неоконченные фразы повисли в воздухе. Она умолкла на полуслове, сраженная внезапным страхом обидеть гостей, а они уставились на нее, их взгляды — как ловушка. Через секунду она была в безопасности, в углу. Никто не обращал внимания, никто не говорил с ней. Невидима. Пусть так будет всегда. Ей хотелось стать немой деревяшкой. А еще лучше — собачкой, которую изредка погладят по голове да сунут в пасть конфетку. Сидя в углу и прислушиваясь ко всякой болтовне: шуткам, историям, спорам, насмешкам, — она чувствовала, как по телу разливается теплая нега. Слова на белых крыльях парили по комнате, собирались в стаи и разлетались, поднимались и опускались. Когда голоса становились слишком громкими, она зажимала уши. Не желала пускать их в свою голову, а то вдруг останутся там и будут тараторить — высокие, низкие.
— Не обращайте внимания, — сказала мать, — она любит сидеть одна. Всегда такая была.
— Это потому, что вы слишком редко брали ее на руки, — ответила тетя, — девочка часами лежала в кроватке.
— У всех у нас есть свои особенности. С чем бы они ни были связаны. — Мамин голос был резким, раздраженным.
— Еще выровняется, — утешала добрая тетушка, — просто у нее замедленное развитие.
Стоя в углу, она издала немой крик. Как бы желая сказать, что ей хорошо, как в раю. И не хочется выходить из угла. А хочется остаться здесь навсегда. Никакими силами ее отсюда не вытащить. Когда все они умрут, она будет стоять в углу, глядя на пустую комнату с коричневой мебелью и засаленным абажуром над столом, комнату, в которой ее родила мать, «легко, будто в туалет сходила», и в которой она сидела рядышком с отцом, когда тот играл в карты. Устроившись на стуле, похожая на нераскрывшийся бутон, она помогала ему считать деньги: складывала монетки по двадцать пять эре, по одной и по две кроны столбиками, которые выстраивала в одну линию. И чувствовала себя в безопасности, никто с ней не говорил. Никто не призывал участвовать в веселье, царившем за столом, этим алтарем картежников, тонущим в облаках сигаретного дыма. Гордясь оказанным доверием, она воображала, что приносит счастье. Рта не раскрывала, слова были заперты внутри, в груди. Она знала, как выглядит скелет: как-то вырезала скелет птицы из одной книги. Бог был белым скелетом, парящим высоко в небе. И ей хотелось стать скелетом, как Бог. Хотелось выпорхнуть из-за стола, из темной гостиной, которая оставалась для нее чуждым миром, куда она попала по какой-то ошибке и где ей приходилось вести себя очень осторожно.
Люди, которые изредка с ней заговаривали, всегда были не теми людьми. То «затворник», то одна из вдов. Только странные и одинокие люди говорили с детьми. Она им не отвечала, не желала связываться с париями и неудачниками. Ей хотелось считаться нормальным счастливым человеком, чтобы у нее, как и у всех нормальных людей, слова без помех складывались в красивые фразы и она могла бы удерживать их в голове. Но еще хуже обстояло дело, когда к ней, по той или иной неясной причине нарушив правила, обращался кто-нибудь из нормальных, счастливых людей:
— Ну что, прячешься?
Она потела, краснела, слова колом вставали в горле. Оставалось лишь кивать и глотать слюну.
— Ну, скажи что-нибудь. — Голос матери прозвучал как выстрел.
Все в гостиной посмотрели на нее. Она отвернулась, и ее стошнило в угол. Туда, где смыкались поклеенные обоями стены.
— Какая нежная. — Звучный дядин голос, голос крестьянина, поразил ее, словно удар дубиной. Хор голосов взмыл к потолку.
Отец принес из кухни ведро с водой и тряпку, чтобы вытереть пол. Она осталась в углу. «Как солдатик на посту». Папины слова ласкали слух.
— Как солдатик на посту, — повторила она. Только за отцом можно было повторять. Она не принадлежала ни к нормальным, счастливым людям, ни к неудачникам. Была чем-то средним. Чем-то особым.
* * *
Она сидела на руках у затворника, внизу перед ней открывался вид на огромную мутную поверхность линолеумного пола, который, стоя на коленях, она мыла каждую пятницу. Опьяняющее чувство: свысока смотреть на арену своих мучений. Быть госпожой ненавистного пола. Благодаря затворнику, маляру и художнику, пятницы более не существовало.
Маляр стал затворником, после того как его сын упал с подвесных качелей в передвижном парке развлечений. Его теплые объятия, рука, ее державшая, передали ей тоску по умершему мальчику, желание пробудить его к жизни, поиграть с ним. Затворник крепко сжал объятия. Длинная жилистая рука, покрытая расправленной — чтобы не помялась — юбкой клетчатого платья, обвивала ее. Волосы на руке щекотали нежные детские бедра. Ее, сидевшую, подобно принцессе на троне, высоко вознесли над ненавистным полом, каждую пятницу требовавшим, чтобы она опускалась на колени перед домашним богом. Тем, который решил, что полы нужно мыть раз в неделю, что маленькие девочки с ведром должны на коленях ползать по бесконечному линолеуму со следами больших грубых калош, уличной грязи и незримых собачьих фекалий. Сидя на сильных руках, она смотрела вниз, на море вечных мук, волнующее линолеум, а между двумя дверями, как змея, ползла по полу узкая протертая дорожка.
Затворник прогнал домашнего бога, повелевающего девочками и женщинами. Теперь он был господином в доме, где каждые полминуты звонил дверной колокольчик. Ее освещало таинственное сияние, окружавшее затворника. Он был не как все, не подчинялся закону о мытье пола и домашнем хозяйстве. Свободный человек и сам себе хозяин. Ей хотелось, когда вырастет, стать как он: работать, только если есть желание, и никогда не убираться. Она всматривалась в запавшие щеки маляра, в его дряблую кожу. Он посасывал сигарету беззубым ртом. Ей не нравились запавшие щеки, они были жуткими.
Стало страшно, и она захотела спуститься вниз, но не решилась попросить поставить ее на пол, чтобы затем перебежать к матери. Она почувствовала, что он хочет жениться на ней, и совсем притихла, неподвижно уставившись на его щеки, кожа на которых шевелилась, когда он говорил с ее матерью о Боге и людях. Жесткая щетина на сероватых, цвета снятого молока щеках заставляла ее покрываться мурашками. Прислушавшись к хлюпающим звукам его голоса, она закрыла глаза и наколдовала пшеничное поле.
Она пряталась в высоких колосьях. Лежала на животе на теплой сухой земле, лицом вниз. Ела землю. Была зверем о двух руках и двух ногах. Спину ее прикрывал панцирь. Солнце припекало, она потела под панцирем. Вот поползла на четвереньках. Ей хотелось стать маленькой, едва заметной точкой на поле, хотелось выбраться на большую дорогу, попасть под машину и исчезнуть. Она попыталась вывернуться из объятий маляра, но тот лишь сильнее обхватил ее. Неподвижно сидя у него на руках, она ждала, когда ее отпустят. Маляр тихо засмеялся, обнажив десны. Его рот был похож на рот большой рыбы. Стало страшно, что он ее проглотит и придется лежать в его животе. Страшно было тьмы, царящей в животе, страшно, что ее заберут силы тьмы. При мысли о силах тьмы она содрогнулась и прижалась к щетине, царапавшей щеки, на щеках расцвели пылающие кусты роз. Он снова засмеялся и причмокнул губами. Он ей не нравился, замуж за него не хотелось и сидеть на руках тоже больше не хотелось. Пусть уйдет к себе и не возвращается. Она принялась пинаться. Засмеявшись, он сказал: «Ах ты малышка», — и сжал ее так сильно, что ни охнуть, ни вздохнуть. Лицо увлажнилось слезами. Она уперлась ногами в его живот и, перевалившись через руку, ударилась головой о линолеумный пол.
Проснулась в своей кровати, одна. Через дверную щель с трудом пробивалась светлая полоска. Там, за дверью, была страна света. Она же находилась в стране тьмы, где болит живот, тошнит и вся мебель, все вещи мертвы. Сколько бы она ни прикасалась к ним, пытаясь вызвать к жизни.
* * *
Нина была злой. Ей говорили об этом много раз разные люди: родные, соседи, одноклассники. Она давно уже смирилась с этим фактом. Родилась Нина злой или была доброй, прежде чем стать злой, оставалось неясным.
Она исписала всю тетрадь: «Нина злая». Не «я злая». Потому что не знала, где коренится зло. Не знала, когда или почему бывает злой, пока ей не пеняли: «Сейчас ты злая, Нина. Опять». Она краснела и растерянно бормотала извинения. И в конце концов перестала извиняться. Поскольку даже сами извинения воспринимались как злонамеренные.