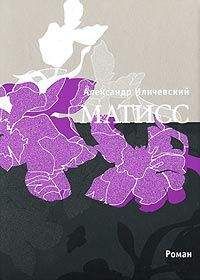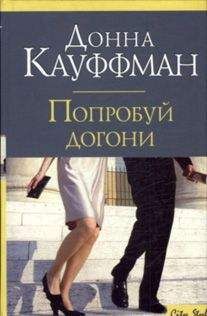Он как раз и заинтересовал Вадю, который терпел две недели.
И не выдержал. Подсев на корточки на пути проходящего мимо Зоркого Глаза (так звали этого человека), Вадя уважительно нахмурился:
– Слышь, браток, я тут давеча всю дорогу дивился: а что это у тебя во лбу горит?
Зоркий Глаз покорно присел к Ваде, сложил ноги «лотосом», ткнул пальцем себе в лоб и прохрипел:
– Это – буква стихий. Символ «Инь-и-Ян».
Вадя пошире раскрыл глаза.
Зоркий Глаз замер и четко прибавил:
– Сложная штука!
– А ты расскажи, не таись, – кивнул ему Вадя и приложил к уху ладонь.
– Короче. В каждой точке вселенной есть Инь и Ян. Белое и Черное. И вот они сношаются. Вот таким образом, – Зоркий Глаз изобразил локтями волнообразные движения и кивнул: – И так в каждой точке пространства бытия. Тут. Там. Здесь. Вот здесь. В космосе. Везде. Белое – Инь осеменяет Черное – Ян. И наоборот. Счастье зависит от того, с какой частотой они это делают.
Вадя отвел палец Зоркого Глаза, чтобы тот не мешал ему рассматривать иероглиф.
– Так значит, прямо так и сношаются? – спросил недоверчиво Вадя, пытаясь понять, какой глаз у собеседника главный.
– Да. Но жизнь, счастье зависит от частоты. Как быстро они это делают, – Зоркий Глаз перевел взгляд на музыканта, выпавшего в коридор с гитарой в руках.
– Слушаю, друг, скажи, – вежливо напрягся Вадя.
– Частота должна быть такая: единица, деленная на «аш с чертой», на постоянную Планка, – понизил голос Зоркий Глаз, вывел рукой плавный зигзаг и перечеркнул его ребром ладони. – Это очень большая частота, – он важно поднял вверх палец.
Вадя сокрушенно провел ладонью по волосам и сказал нараспев:
– Понял, братишка. Ну, бывай. Будь осторожней, брат. Будь.
Вадя хлопнул себя по колену, встал.
К Зоркому глазу молча подсел гитарист и принялся страдальчески надрываться пальцами по грифу, клоня голову и кивая в сторону комнаты, где стояли колонки, подвывающие его дребезжащим пассажам…
XIII
Когда Надя долго оставалась одна, лицо ее постепенно становилось глуповатым – взгляд останавливался, и если ей вспоминалось что-то с усилием, то лицо бледнело, приобретая ошеломленное выражение, или – краснело, и выраженье становилось тягостным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Оставаясь одна, Надя старалась скорее заснуть. В одиночестве она претерпевала какую-то трудность, бедственность которой состояла в неизъяснимом беспокойстве, слишком текучем и неподатливом для внутреннего овладения. А если заснуть не получалось, старалась читать. Читала по складам все, что попадало под руку – этикетки, квитанции. Читала яростно, пыхая, шевеля губами, едва успевая переводить дух, читала даже газету. Широко открывала глаза, смаргивая, поводя головой, устремляя взгляд на время в сторону, сверяя слова с пониманием…
XIV
С художниками они дожили до осени, а с наступлением холодов нашли теплый чердак на Пресне. Низенький, засыпанный мелким гравием, – в нем приходилось ползать на четвереньках между отопительных труб, обернутых стекловатой, среди снующих, гудящих утробно, хлопающих голубей, которые в неудобной тесноте, упруго трепеща, подворачивались то под руку, то под локоть, живот или колено. Зато было тепло, и через оконце Надя весь день могла смотреть на реку, на дома Трехгорки, на многоярусные дворы, с помощью подпорных стенок поднимавшиеся на кручу. Для этого газетой натерла стекло до свинцовой прозрачности.
Дворы и парк у здания Верховного Совета – большого белого дома – были полны рассеянного, дремлющего солнца, желтых листьев и горьковатой дымки. Голуби гулили, дудели, наскакивали друг на дружку, хлопотали, спали, подсунув под крыло голову. В мглистом свете утра река раскрывалась излучиной за мостом, серебрилась и вспыхивала там и тут острыми углами, которые, проникая в высь, насыщали блеском воздух. Липы вдоль набережной, под пирамидальной высоткой, трепетали, ссыпали пестрые шлейфы листьев на вдруг подернувшуюся рябью реку.
В начале октября что-то случилось, танки подъехали к Белому Дому, забегали люди с автоматами, на набережной выстроились в ряд машины «скорой помощи», толпа высыпала к мосту.
Вадя тогда всю ночь и утро провел на Казанском вокзале – и теперь возвращался к Наде. Самое неходовое время он проторчал у камеры хранения, поджидая клиентов, вооруженный ручной тележкой. Он арендовал ее на подработок у носильщика Скорыча, знакомца. Таджикская мафия, по словам Скорыча, постепенно захватывала носильное ремесло на Трех вокзалах. Они не тыркались гуртом, как кутята, грызясь, в молочную сучку, как наше дурачье, а наседали на пассажира складно, полукругом, хватали вещи, не давая опомниться. И одолев, выделяли из своих рядов одного, очерёдного. Вознаграждение он не присваивал, а нес, как все, в общий котел. Выручка распределялась и на зарплату, и в кассу взаимопомощи. Тем юнцам-носильщикам, которым родители денег не доверяли, выделялась только мелочь на цацки. Старший дядька сам выдавал зарплату сына отцу или матери, раз в неделю. Так рассказывал Скорыч, и Вадя теперь шел с вокзала, обуреваемый неясной возбужденностью, досадой и вместе с тем роковой уверенностью в неизбывности той бестолковой безнадеги, с какой русская нация упивается наплевательским отношением к жизни.
Скорыч по обыкновению еще много рассуждал сегодня ночью. Это был старый, сухой как щепка человек с веселым прищуром в глазах. Пальцы его рук все были в перстнях татуировок. Под прилавком его приемного оконца стояла спиральная плитка, на которой он скручивал себе чифирь и, дымя, поджаривал ломти черного хлеба, превращая их в угли. Откусывал, хрустел, кривясь беззубым впалым ртом, – и с хлюпом запивал чифирем.
Скорыч любил рассуждать с отрывистой декларативностью:
– Я вот Зойке-то и говорю. Я тебе что – еврей: все домой тащить?! А? Молчишь, курва?! Вот то-то и оно… Молчи тогда.
Или:
– Нет, паря, русский человек что? Да ничего. Муха! Русский человек на голодный желудок работать не может. Это раз. А на сытый – не хочет. Это два. А ты говоришь: страна… Ничего ты не кумекаешь, – Скорыч постучал сухарем по прилавку, оббивая обугленную корку. – Ты – тютя еще. Тютя.
… Танки стреляли, окна Дома дымились, повсюду виднелись оранжевые цистерны поливальных машин, выставленных в качестве заграждения.
То и дело тарахтели автоматные очереди, и вся густая россыпь людей, как пленка жира на бульоне, шарахалась к подворотням большого углового дома, к реке, на набережную.
Вадю охватил трепет, эйфория. Военные действия – при всей их отвлеченности – были зрелищем.
Вскоре паника рассасывалась, волна откатывала. Люди, затертые собственным множеством, возвращались к мосту. Они снова всматривались, вытягивали шеи, тянулись на цыпочках.
Волнообразные всполохи толпы доносили невидимый источник паники. Находясь внутри, Вадя вместе со всеми заражался страхом в чистом виде, – невидимость источника обескураживала, жестокая легкость носилась над площадью, рекой, городом.
Танки при развороте, газуя, окутывались сизым облаком, поворачивали башни. Черные столбы копоти подымались от пылающих окон Белого Дома. Военные в оливковой форме, похожей на скафандр, на полусогнутых, перебежками приближались к боковым подъездам.
XV
Поезда метро дальше «Пушкинской» не шли. Выйдя по Бронной и Спиридоновке на Садовую, Вадя поравнялся с двумя пожилыми иностранцами. Они озирались. Недоуменные, испуганные улыбки жили на их лицах. При них была собака, пудель. Один – толстый, в плаще, с женскими часами на волосатой руке – нес на плече видеокамеру.
Спрятавшись за двумя составленными вплотную поливальными машинами, пятеро военных в касках и бронежилетах вслушивались все вместе в приказы, раздававшиеся по рации.
Черный пудель, путался под ногами иностранцев. Семенил, царапая асфальт, будто на цыпочках, нервно цокая, оглядываясь.
Внезапно военные развернулись, высыпали из-за «поливалки» и, упав на колено, дали залповую очередь по верхним этажам арбатской высотки.
Задрав голову, Вадя видел, как с верхних этажей брызжут стекла, как на верхотуре мелькнули локти, голова, что-то сверкнуло, замельтешило, посыпались солнечные зайчики… Как долго падала, сорвавшись блеснувшим колеблющимся параллелограммом, спланировала черная пластиковая панель.
Стрельба разом прекратилась, и автоматчики, пригнувшись, нырнули один за другим под задний мост «поливалки». Упавший последним судорожно подползал на коленях, прижимая к груди автомат, свалился. Как безногий.
Грохот хлобыстнул откуда-то еще раз – и пудель сорвался на проезжую часть, посеменил зигзагами, останавливаясь, забегая, возвращаясь.
Пожилой иностранец в тонких очках, с кашне под горлом, что-то нерешительно бормоча, подался, потом вдруг кинулся за собакой – через всю Садовую, протягивая руку, посвистывая, припадая на полусогнутые, быстро оглядываясь вверх, по сторонам, возвращаясь, спугнутый накатившим от обочины БТРом, и снова решаясь продвинуться. Он уже было настиг собаку, и та, оглянувшись, дернулась, подалась и готова была кинуться в руки хозяину, как снова зачастили хлопки, быстро поредели, – и вдруг пудель подлетел в воздух, кувыркнулся, раскинул лапы, от него что-то отлетело, он прыгнул снова, на месте, на трех ногах – и закинулся навзничь. Иностранец разом рухнул, заерзал животом по асфальту, быстро пополз, замер, встал на четвереньки, засеменил, подкидывая ноги, и кренделями вернулся на тротуар. Его испачканное лицо было перекошено, на щеке горела широкая ссадина. Он тяжело дышал и не проронил ни слова.