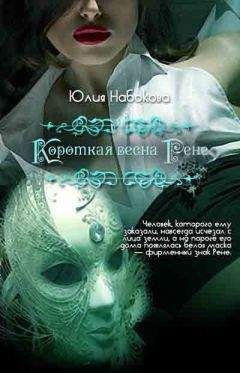Утомленный собственным монологом, Виктор одним глотком опрокинул стаканчик, где была уже только вода тающих льдинок. Поднял палец и сидел так в ожидании официанта, затем вдруг оглянулся и указал мне куда-то в сторону:
- Вон видишь, сидит женщина. Вылитая моя Мери... Я взглянул. Женщина пила кофе, время от времени трогая поводок, которым к спинке ее кресла был привязан карликовый пудель. Женщина как женщина, без особых примет.
- У тебя и пудель есть? - спросил я.
- А я теперь буржуй! - хохотнул Виктор. - У меня пудель, автомобиль. У тебя автомобиль есть?
- Есть...
- О, забыл, с кем дело имею! Но скажи правду, у тебя ведь единственный автомобиль во всем дворе? Я, знаешь, люблю статистику, и мне кажется, что у нас в квартале - а живу я не в самом богатом районе - больше автомобилей, чем во всем Киеве сегодня.
- Ты разговариваешь, будто радиопередача для недоразвитых, - сказал я. - Иногда от вас идут такие: "У нас дома самые высокие! У нас автомобили самые длинные!.." Не надо, Виктор! Если тебя так уж интересуют цифры, то в моем доме на двадцать четыре квартиры, кажется, семь автовладельцев. Может быть, восемь. О чем это свидетельствует, скажи по секрету?
- Люблю цифры, - развел Виктор руками.
- Тогда усваивай все. Запиши к себе в статистику, что за время второй мировой войны Киев потерял в полтора раза больше людей, чем твои Соединенные Штаты за ту же войну.
- А меня ты зачислил в потери?
- В число тех, кого потерял мой город? Конечно. А потом у нас было восстановление. Слыхал? Кирпичи, которые вы вгрохали в свои шоссе, бетон, которым вы их залили, чтоб легче ехалось, мы ставили вертикально. Мы людям жилье строили, мы делали кирпичи и бетон домами восстановленных городов. А затем настало время и для легковушек, и для пуделей.
- Я еще почти ничего не сказал об Америке, а ты меня уже атакуешь.
- Ты избрал этот тон. Ну, а если по правде, то как там вы с пуделем поживаете? Как у вас дома - при всех собачьих и человечьих успехах?
- У меня нет собаки, я пошутил... Ты угадал, что я из Америки, мог и про собаку угадать. Зачем она мне?
К нам спешил официант, неся стаканчик с виски.
- Еще "Перье" для тебя? - спросил Виктор, придерживая официанта. Когда я отрицательно качнул головой, он отпустил его и взглянул на меня: - Ты улыбнешься или подумаешь о происках врага, но я живу в том самом отеле, что и ты. Моя Мери сказала бы, что на то воля божья, а ты будешь до головной боли высчитывать, кто же это устроил, хоть все это ерунда.
- Ну вот, а ты сказал, что американки вводят все в логическую систему.
- Религия для них - разновидность логики. Как правило, американки мыслят реалистично и конкретно. Когда Мери узнала, что я скоро умру...
- Прекрати...
- Когда она узнала, что мне жить уже недолго осталось, сама предложила, чтобы я съездил в Европу. Понимаешь, человек неспособен поверить, что умрет. Знает, но не верит, что такое и с ним случится. Первыми в твою смерть поверят близкие. Мери поверила, потому что она медик и знает про меня больше всех. От самого первого рентгеновского снимка, который сделали мне в клинике по ее страховке, потому что в любом другом учреждении это мне обошлось бы будь здоров во сколько. Она увидела опухоль у меня в правом легком, когда снимок еще сохнул, а затем уже пошли всякие диагностические фокусы, но они ничего не добавили, потому что самое главное выяснилось вначале.
- Не надо...
- Ты меня перебиваешь, а я говорю правду. Точно знаю, что умру вскоре, но неспособен поверить в это. Говорю тебе: если человек и верит в смерть, то исключительно в чужую. Это закон природы. Но Мери поверила и начала спрашивать все чаще, чего бы мне хотелось, так сказать, напоследок. Она, я говорил, человек верующий, и проблема расчетов с жизнью для нее и философская, и бытовая.
Короче говоря, Мери выдавила из меня затаившееся в подсознании желание посетить Европу. Я приехал...
- Хотел приблизиться к тому, давнему киевскому дому?
- Возможно. Я читал недавно советский роман о военном эмигранте, который возвращается в СССР, чтобы покончить с собой в каком-то роскошном отеле. Но тот человек ушел с родины уже взрослым, его взяли в плен, он успел побыть на войне с оружием в руках... А я перед родиной чист: меня увезли мальчишкой, я жил по разным иным странам дольше, чем в стране, где родился, и отношение к самой первой земле у меня другое. Впрочем, когда-то там была трава, и я помню ее, как собственный остров. А здесь Европа, большая, разная. Не Америка, разумеется, с ее Плевать Я На Вас Всех Хотела, но и не наша трава у подъезда. Сам понимаешь...
Виктор помолчал, но так, что было понятно: он снова заговорит, и эта пауза не для моих слов, а для созревания его собственных. Он взглянул себе на руки с темными пигментными пятнышками на обороте ладоней, улыбнулся:
- Время... Как ты считаешь, кто сыграет на моих похоронах? Что за музыку?
- Иди к чертям! - серьезно ответил я. - Какая тебе разница, что будут играть, когда тебя на свете не будет? Да хоть польку-бабочку!
- В том-то и дело, что польку-бабочку не сыграют. У них другая музыка. В том-то и дело...
ПОЭЗИЯ. (Стихотворение американского поэта Карла Сендберга "Трава".)
Сложи холмы из тел под Ватерлоо в Аустерлице;
В землю их зарой и дай пробиться мне -
Я все покрою, я лишь трава...
Потом сложи их грудой в Геттисберге,
Сложи их грудой в Ипре и Вердене,
Всех закопай. И мне позволь пробиться.
Минуют годы; спросят пассажиры проводника:
- А это что за место?
- Где мы теперь?
А я трава всего лишь.
Позволь мне действовать.
Антология "Поэзия США".
Вы бывали в киноархиве? Если вы пересмотрите архивные пленки, коробку за коробкой, то вас даже через десятилетия поразит масштабность войны. Затем задумайтесь, и у вас возникнет желание переосмыслить все увиденное с другими, сделать фильм. Я хранил несколько вариантов сценария дома, все они были про войну, про ту самую, которая многих оставила за своими прицелами, не стреляла в них, но все равно перевернула, перекалечила. Сколько миллионов жизней прикоснулись если не к металлу, то к огню войны истоками своими, детством?
Почему задуманный фильм должен был строиться как документальный? Потому что мы научились выдумывать убедительно и красиво. Порой выдумки кажутся даже истиннее настоящих событий, и надо от картин-выдумок возвращаться к документам, к истинным лицам и настоящим выстрелам, от которых экран напрягается и трещит, будто рвут его на клочки.
(Вымысел бледнеет перед реальностью. Вчера по второму каналу здешнего телевидения шло интервью с двумя американцами-ветеранами "грязной войны" во Вьетнаме. Ведущий спросил у одного из них, лохматого, неаккуратного человека лет тридцати пяти со светло-голубыми глазами, как именно добывал он данные, допрашивая пленных вьетнамцев. Голубоглазый улыбнулся и спокойно так показал телеоператору на свое бедро: "Я стрелял из пистолета пленному вот сюда, в мышцы бедра, а затем выламывал тоненькую бамбуковую палочку, втыкал ее в рану и поворачивал там. Говорили...". Голубоглазый захохотал на весь телеэкран и тряхнул кудрями.)
Гениальный французский фантаст Жюль Верн был не в состоянии выдумать чудеса, основанные на ядерных реакциях расщепления и синтеза, которые позже трезвейшим образом были изучены гениальным парижским ученым Фредериком Жолио-Кюри. Последствия взрыва атомной бомбы были для большинства неожиданны. Дантов ад бледнеет перед Дахау, Хиросимой или Бабьим Яром. Как-то в поисках киноматериалов я просматривал архивные нацистские пленки начала сороковых годов и вдруг обнаружил в них Киев, а там двух эсэсовцев, которые циркулярной пилой перепиливали живого человека. Такое нельзя придумать; чтобы придумать такое, надо оказаться на умственном уровне мерзавцев, включающих пилу, прижатую к живому человеческому телу.
Мне даже казалось, что я слышу музыку взвизгнувшей пилы.
Что за музыка была в моем детстве? Кто вспомнит ее? Мамины напевы? Даже не знаю, часто ли в те голодные и страшные годы пела моя мама, да и песни ее не были музыкой в том высоком понимании, согласно которому музыку творят музы, музицируя в эмпиреях. А я уверен, что в детстве моем пела мама, пел отец, пела бабушка, пели все добрые люди, сколько бы их вокруг ни было. Пение остается для меня приметой добрых людей, у каждого из них своя песня.
(У мамы Виктора, Таисии Кирилловны, было иное, должно быть, ощущение. Она часто говорила, что мы, украинцы, - "славянские неаполитанцы", ведь лучше всего поют там, в Неаполе! Побывав перед войной в Одессе, она повторяла, что это наш "украинский Париж"; когда я впоследствии слышал, как один из новых районов Киева зовут "киевской Венецией", я всегда вспоминал Таисию Кирилловну.