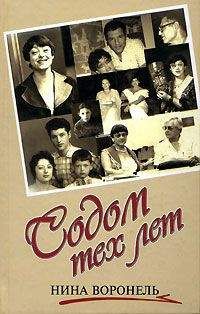Анька, втянув голову в плечи, застыла ни жива ни мертва, боясь пошелохнуться. Офицерша тряхнула ее посильней:
— Слышишь, что я говорю? Поди глянь — то не мать твоя?
Анька затрепыхалась в ее сильной руке и едва дыша спросила:
— Где?
— Вон, у забора. Давно стоит, никого не зовет, все на наше окно смотрит.
Понуждаемая толчками офицершиной руки Анька слегка приподнялась, мимолетно зыркнула в окно и тут же отпрянула. Она ничком рухнула на подушку, дробно засучила ногами и зарыдала в голос, совсем по-детски заходясь на высоких нотах. Сомнений не было — она узнала мать.
Женщины задвигались, зашелестели все разом, зашуршали простынями, зашаркали тапочками, а через какую-то долю секунды шелест и шарканье захлестнуло стремительным топотом многих ног: обгоняя друг друга, все ринулись к окнам. Всем хотелось посмотреть, увидеть, сопережить:
— Где? Где?
— Которая? Эта?
— Нет, та — подальше, у забора.
— Она, да? Она?
— Молодая еще!
— Смотри, плачет!
— Два часа уже стоит, не меньше, я давно ее заприметила!
— Плачет, на наше окно смотрит, никого не зовет!
— Надо же, пришла все-таки!
— Все ж мать! Родное дите из сердца не выбросишь!
— Подумать только — после такого и пришла!
— Слышь, Анька, выглянь, махни матери рукой!
— Поди, Анька, выглянь!
— Что же ты, Анька, на мать родную взглянуть не хочешь?
Вместо ответа Анька еще громче зарыдала, забила ногами, затрясла головой и глубже зарылась в подушку.
— У-лю-лю! Вот ведь сучка: на мать родную взглянуть не хочет!
— А чего глядеть? На что ей теперь мать? Титьку она уже выкушала, мужа от матери отбила: чего взгляд тратить? У, сука-мать-пресвятая богородица!
— Мужика у матери! — в который раз ахнула палата, вновь и вновь постигая весь восхитительно-непотребный ужас этого события.
— Ты скажи, ты по ночам за ними подсматривала?
— Подсматривала? Сознавайся!
— А при нем раздевалась? Раздевалась ведь!
— Ясно, раздевалась, раз в одной комнате!
— Нарочно раздевалась, не сомневайтесь!
— Ну, раздевалась или нет, говори!
Анька пролепетала еле слышно:
— Я не помню...
— Конечно, куда ей помнить — у нее вся память в таблицу умножения ушла!
— Сейчас проверим! Пусть скажет, сколько будет дважды два!
На этот раз никто не засмеялся, и это было еще страшней. На этот раз вся палата шла на Аньку войной:
— Тебе хоть приятно с ним было, там, в ванной? Или больно?
— Больно.
Анька надеялась, что ее пожалеют, но напрасно. Настроение быстро менялось.
— Нет, это ж только послушать: от матери мужика отбила, сука-мать едрена, и безо всякого стыда рассказывает!
— Вы же сами спрашиваете...
— Да как ты матери в глаза после такого смотрела?
— Это ведь совесть какую надо иметь!
— Тебе хоть стыдно?
— Как же, стыдно ей! Только и ждала небось, пока за матерью дверь закроется!
Так ее! Ату ее! У-лю-лю! Побольней ее, побольней, — чтоб знала, чтоб молодостью своей не завлекала, а то ведь это каждая так может! А мы как же? Мы ведь стареем, а дочки наши подрастают! Так похлеще ее, так ее! И еще! И еще!
И Анька, даром что несмышленыш, а все ж кровь от крови их и плоть от плоти, поняла, что надо сделать, чтоб отстали, чтоб больше не мучили, чтоб пожалели и оставили в покое. Не столько поняла, сколько нутром почуяла, что каждая здесь хочет пережить с ней ее страшный опыт: побыть девочкой, соблазненной отчимом в ванной (мокрой, гладкой, испуганной, трепыхающейся в волосатых сильных руках — а ведь он, небось, давно на нее облизывался, на молодость ее, на невинность), и матерью, обнаружившей вдруг непереносимый грех между дочкой и мужем, — господи, и как только сердце не лопнуло?
И Анька торопливо забормотала, затараторила, сбиваясь и глотая слова:
— Разве я просила? Она его в дом привела... Я говорила — не надо... Мне не надо, а ей надо... По ночам спать не дают... все возятся и шуршат... и шепчут, а мне утром в школу вставать... Кому он нужен такой — пьяный, ноги волосатые... А она его привела... Он что хочет, то и делает, и лапается все время... только она на кухню, он сразу лапаться...
Она размазывала по щекам слезы, и в палате было так тихо, будто все враз перестали дышать, а только слушали, слушали, слушали, забыв самих себя, забыв свои собственные беды и невзгоды. Но Лия ничего этого не поняла, потому что она была всем чужая и не могла больше терпеть. Именно тут, посреди этой невыносимой тишины, поглощающей, засасывающей, как трясина, Анькино перемежаемое всхлипами бормотание, Лия вдруг вскочила и закричала не своим голосом, сама себя пугаясь:
— Хватит! Хватит! Перестаньте мучить ребенка!
Анька немедленно смолкла и нырнула под одеяло: она свое отыграла, наступала очередь Лии.
— Глянь, рыжая, а туда же!
— Хорош ребенок, только из пеленок!
— А тебе что за дело?
— Смотри, заступница нашлась!
— Сама, небось, из таких!
— Ты от кого аборт делать пришла — от своего мужа или от материна?
— Да уж ясно, не от своего — на ней и кольца-то нет, не видишь?
«Господи, — мелькнуло в помутившейся голове, — зачем я? Одна против всех».
Не помня себя, Лия выскочила в коридор. Сердце колотилось бешено, хотелось упасть на пол и крикнуть «мама!». Она тоскливо оглянулась на дверь палаты — дверь была плотно закрыта, никто не гнался за ней, никто не кричал ей вслед обидных слов. Забыли, небось, про Аньку и дружно обсуждают ее. А может, и ее уже забыли и принялись пережевывать очередную жертву. Возвращаться туда не хотелось. Постояв несколько минут в нерешительности, Лия побрела вдоль голого ряда коридорных окон. Каждое окно смотрело все в тот же больничный двор, только с другой стороны прямоугольника. Лия подошла к окну и стала вглядываться в подвижный, полный оттенков сумрак, слегка вызолоченный тусклыми бликами больничных окон, отраженных в мокром асфальте, и радужно оттененный переливчатым заревом большого города. На блестящей полоске дорожки, окаймляющей призаборный газон, трепетала под дождем женская тень. «Анькина мать!» — догадалась Лия, и от этой догадки стало особенно нехорошо и смутно на душе. Лия плотно прижалась лицом к стеклу — теперь она могла довольно ясно различить женщину, неподвижно стоящую без зонта с непокрытой головой под мелким, назойливо моросящим дождем. Лица ее не было видно, но по каким-то неуловимым признакам Лия была уверена, что она плачет.
Не в силах оторвать глаз от этой печальной фигурки Лия стояла так же неподвижно, вникая постепенно в безвыходное отчаяние разыгрывающейся перед нею драмы. Ноги затекли и замерзли, но она не могла уйти, словно пришлепнутая к окну магнитом. Ей уже начало казаться, что они так и простоят друг против друга до утра: одна — поглощенная своим горем, другая — припаянная к ней невидимой ниточкой захватывающего сочувствия, хоть она и понимала, что Анькина мать не замечает ее и не подозревает о ее существовании. Она постаралась стать поудобнее, прижав коленки к шершавой, выкрашенной маслом холодящей стене, но тут женщина внизу вдруг круто повернулась и, не оборачиваясь,почти бегом припустила к автобусной остановке.
Сначала Лида пошла к автобусу быстрым шагом, почти побежала, потому что иначе ни за что бы не оторвалась от этого проклятого окна. Но сразу за больничными воротами вдруг обессилела, почувствовала на плечах тяжесть мокрого пальто, а в пальцах знобкость от прикосновения отсыревших сапог, и сникла — куда было идти, куда спешить? Вернее, давно бы надо поспешить домой, очень надо — готовить ужин, укладывать спать Дениску, да и стирки накопилось за последнее время, когда руки ни за что не брались. Но тошно было подумать, как она откроет дверь, войдет в комнату и увидит Федора, или еще хуже: войдет и не увидит. Если он дома, значит — пьет, а если не дома — тоже пьет, только неизвестно, где и с кем. С тех пор, как она узнала про него и про Аньку — а этому уже больше двух недель, — он пьет каждый день. Пьет и молчит, и она молчит, как немая, а когда его поздно нет, она лежит без сна в темноте, ждет и боится, что он не придет, не вернется, исчезнет из ее жизни навсегда, и она опять останется одна в своей постылой комнате.
«Господи! — сказала она так громко, что семенящий впереди под большим пестрым зонтиком старичок оглянулся с опаской и ускорил шаг. — Господи, что же делать, что делать?» Она плакала и не утирала слез — все равно лицо было совсем мокрое от дождя.
Она всегда была невезучая и всегда это о себе знала, с детства знала, хоть все девчонки когда-то безумно завидовали ей, когда у нее началась сумасшедшая любовь с Валерой. С самого первого раза, как только Валера пошел провожать ее домой после школы, а потом стал каждый вечер заходить за ней и водить на танцы, или в парк, или в кафе «Марс» на улице Горького, где надо было долго мерзнуть в очереди под дверью и где подавали фирменное мороженое в виде реактивного самолета с яркой засахаренной вишенкой в форме звезды на шоколадном крыле, — с того первого раза она уже знала, что счастье ее недолговечно, и жила в ожидании катастрофы. Однако катастрофа все откладывалась и откладывалась, и даже девчонкам из обоих параллельных классов «А» и «В» уже надоело обсуждать, что он в ней такого нашел.