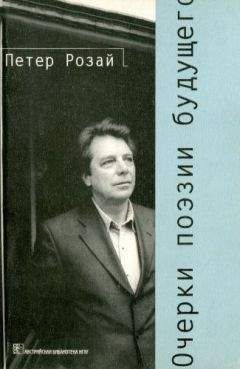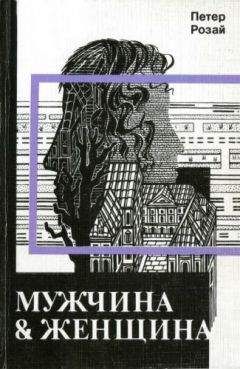— Отпускаю ему грехи!
Перед подиумом распахнулись скрытые до времени люки, люди покатились вниз по вздыбившемуся полу — какая-то свалка! — и священники в развевающихся сутанах устремились из своих покоев к свету.
Палек благословлял их.
Девушки в белых одеждах спорхнули вниз из-под потолка. И началось.
* * *
Тут он вспомнил, что забыл в отеле черный портфель! Клокман сидел в самолете: проем между раздвинутыми боковинами портфеля зиял перед его внутренним взором. Впрочем, о потере портфеля он не жалел: все равно там уже ничего не было.
Он огляделся. Стюардесса чуть было не споткнулась в узком проходе. Он вытянулся на спинке кресла, откинув голову. Самолет трясло. Свежевыбритый подбородок. Знакомых среди пассажиров не было. Крышки на багажных полках были серого цвета.
И снова его затянуло в багряный, похотливо дымящийся водоворот! Над его зевом клубился серебристый туман. Стены водоворота были гладкие, так быстро вращалась вода. Может, это была плоть? Попугаи летели к берегам, поросшим джунглями. Кто-то звал на помощь?
Он узнал голос фрау Кац.
Клокман потянулся: ну и задал он ей жару. — Он увидел себя со спины, вот он голый по пояс, широкоплечий, подходит к кровати. Она курила.
Он зевнул.
Фрау Кац, надевающая трусики за опрокинутым торшером в номере отеля, так и стояла у него перед глазами.
Сложенные салфетки, словно самолетики, планировали в бездну. Между гудящими стенами. Он слышал, как голосили люди, беспомощно копошащиеся на дне.
Коньяка перебрал, дружок.
Они пили из стаканов. В отеле.
Он увидел стаканы; блестящие капли, стекающие по стенкам. Радужные нимбы дрожали над головой фрау Кац. Потом он снова провалился в бездну, побарахтался немного — и вот уже отважно, как победитель, ринулся вниз: он летел, широко раскинув руки!
А там, на дне этой бездны, если у бездны может быть дно, в завихрениях грохочущей и бурлящей пены, среди сверкающих полос радуги — клочья тумана проседали еще ниже, в какую-то неведомую глубь. И с ужасом, от которого у него выступил пот на ладонях, он увидел облако светлых и темных, золотистых и серых крапинок, которые меркли — со свистом летели золотые крупицы — и пропадали в кромешной тьме: в пасти гигантских рыб.
— Напитки, пожалуйста, — предложила стюардесса. На тележке, которую она толкала перед собой, позвякивал колокольчик.
— Нет, спасибо, — пить ему действительно не хотелось.
Клокман обмяк и какое-то время неподвижно сидел в своем кресле, крепко сжав губы.
В руках он держал черную записную книжку.
Она была заляпана каплями пота.
Ну что за жизнь — сплошное убожество!
Он раскрыл записную книжку, попытался собраться с мыслями, записал: вязкое вещество! Похоже на рисовую кашу! Черные тараканы!
Палек присвоил половину его гонорара, урвал себе кусок — в уплату за спасение жизни. Падаль! Деваться уже было некуда. Звонить в центральное агентство бесполезно. Когда они нанимают кого-то со стороны, поступают с ним как заблагорассудится. «Что осталось от гонорара? Какая-то мелочь! Все истрачено», — безрадостно записал он.
«Вот бы мне денег, много денег! Засело бы в голове солнце из золотых монет и вечно светило бы из глаз! После смерти — нет, раньше! — И больше ничего не надо».
Он уныло достал сверху из чемодана офисную папку: так, посмотрим, что там намечено. — Это была его памятка. — Он вычеркнул авторучкой уже ненужные адреса и телефонные номера: Палека, фрау Кац и т. д. Их набралось немало. Сверху он намалевал каракули. К капелькам чернил он пририсовал ножки, так что получились бегущие человечки. Топ-топ-топ!
Снова появилась стюардесса и враскачку прошла мимо. Перед ним, как наяву, предстала голая фрау Кац в тот миг, когда она подняла ногу на край ванны; сам он утопал в мыльной пене. Чашечки бюстгальтера.
Две райские птички выпорхнули из розовой, вьющейся спиралью дымки. Все кружилось, как переливчатые крылья на хвостах!
Клокман быстро поднялся, стиснув челюсти, и с силой запихнул офисную папку обратно в чемодан. Пассажиров в салоне было совсем немного. Они сидели в другом конце — отсюда ему были видны лишь макушки их голов и волосы. Одна пассажирка была в шляпке. Взревели двигатели самолета.
Падаем, что ли?
Клокман зашатался. В этот момент самолет взорвался. Поднялся вихрь из свиных копыт, портфелей, светлых плащей, золотых коронок, ногтей, стаканов с виски, носков, очков, оторванных брючных пуговиц, пальцев с кольцами, без колец, круглых, как круги у него под глазами, из книг, канцелярских принадлежностей, любовных и деловых писем, из часов, часов с застывшими стрелками, толстых часов, жирных часов, — и вдруг стены этого водоворота лопнули, разверзлись воронкой, — и обгоревшие обломки, пылающие человеческие тела и черепа дождем посыпались на землю. Кратер, наполненный сломанными вставными челюстями!
Разбитые якоря.
Когда за одно утро переживешь столько падений, начинаешь ко всему привыкать. — Клокман расслабил галстук, уселся и позвал стюардессу.
Он взглянул на наручные часы: времени достаточно.
— Шнапс, пожалуйста.
Ему принесли шнапс.
Чтобы совсем успокоиться, он углубился в созерцание природы: посмотрел в иллюминатор на невредимую алюминиевую несущую плоскость самолета, за ней внизу виднелась земля: широкая равнина, покрытая серыми и зелеными пятнами, — это, наверное, были леса, — подернутыми белой рябью: снег?
Гладь земли красиво выгибалась на горизонте, голубая зыбь пробегала по руслам вьющихся тут и там рек, по поверхности широких озер, залитых серо-голубым блеском, по круглым лесистым островам, похожим на подушки. И эта нежность, эта доброта, которая, мы надеемся, свойственна и природе, скользнула, словно рука, по взмокшему лбу и телу Клокмана, умиротворяя его.
Он откинул мягкое сиденье, выпил залпом шнапс. Он уже почти задремал.
Фантазия! В его деле без этого никуда, надо все время строить воздушные замки, воздвигать скалы спасения…
Кошмары никому не нужны: знай себе — показывай путь к счастью! Даже если никакого счастья нет и в помине!
Болотная трясина.
Трудно сказать, воспринимал ли Клокман эти досужие мысли всерьез. Мелочиться он не привык: какие-то мысли есть! — И то хорошо. — А вот и последняя мысль: «Ах ты, похотливая дрянь! Фрау Кац! Черт бы тебя побрал! Смертельная порча. Вуду».
Зал прибытия в аэропорту показался ему довольно необычным. Здесь чем-то сильно пахло — Клокман не смог сразу определить, что это был за запах. С черным чемоданом в руке, он, как положено, прошел через пропускные пункты.
В архитектурном отношении зал был весьма примечательным: стеклянные стены — крыша с кровлей из гофрированных листов стали — во всем чувствовался размах.
По залу носилась стая ворон. На балках у них были свиты гнезда. Снежинки.
Клокмана ждали трое; прямо небольшая делегация, не без гордости отметил он. — Возглавлял ее импозантный мужчина в шубе из волчьего меха, с тяжелой нижней челюстью и большими ушами: герр Смунк. За ним стоял худой, не по годам дряхлый парень с сивыми усиками: герр Вазелин. Замыкал группу близорукий, рассеянный на вид коротышка в немного мешковатом костюме: герр Ляйхт.
— Какая радость! Дорогой герр Клокман, — воскликнул герр Смунк и прижал нашего друга к своей широкой груди, покрытой волчьим мехом. — От него, что ли, пахнет?
Ладонь у герра Вазелина была гладкой и скользкой, как обмылок. Он поклонился.
Пахло вроде не мылом.
Над господином Ляйхтом не переставая с карканьем кружили вороны, это бросалось в глаза еще и потому, что от Смунка они, по-видимому, старались держаться подальше.
У Ляйхта ладони были довольно влажные.
Он, казалось, был слегка не в себе.
Наша группа двинулась к выходу. Было морозно. Огромные ворота. Руки Ляйхта покрылись мурашками. — Он попросил у Клокмана глоток шнапса: «Вы ничего с собой не захватили?» — Смунк шествовал впереди; он поднял меховой воротник, прикрыв уши.
Вазелин, как и Ляйхт, был в одном пиджаке.
Снаружи ветер намел сугробы снега, на фоне темного неба поблескивали вороньи клювы.
Пустыня.
Фантастика!
Какой закатили банкет! Просто фантастика!
Отель, словно дворец, одиноко сияет во тьме полярной ночи.
Дворец исчезает.
Позади на стенах пылают оранжево-желтым огнем зеркала и меркнут, когда на них ложатся пролетающие тени. Облака дыма. Курильщики. Толстая сигара между жирными пальцами.
Каким же ярким кажется после этого блеск золотых колец на люстрах и потускневшего от времени столового серебра.
Какое-то копошение на коврах. — Клопы?
И поднимаются руки со стаканами, с пенящимися бокалами, и вырываются из глоток радостные возгласы: «Ура! Ура! Ура!»
Это уже не жизнь, а пьяный угар! Хмельной экстаз — восторженное буйство. Раздувшиеся от удовольствия, расплывчатые силуэты качаются в потоках света над столами, за которыми идет пир. И какой пир! Кости трещат. Идет веселый кутеж. И какой кутеж!