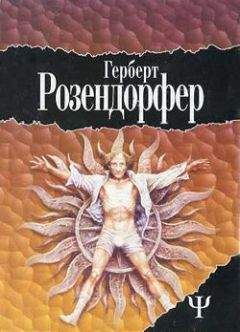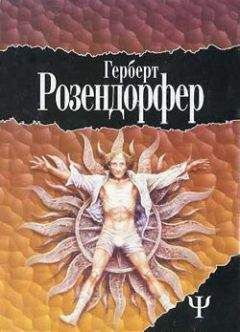– А-а, господин Герстенфельдер, – приветствовала она Кесселя, – так что же вас ко мне привело?
Зная фрау Маршалик и ее привычку перевирать фамилии, Кессель на это никак не отреагировал, хотя настоящий Герстенфельдер, большой нахал и автор дешевых детективов, был ему очень не по душе. Кессель и сам с удовольствием написал бы парочку таких детективов, но ему их не заказывали.
– Да вот, решил узнать, как идет ваша служба, – бодро пошутил Кессель.
– На такие вопросы, – сказала фрау Маршалик, – мой покойный отец обычно отвечал: служат собачки, а я работаю. Да и потом, служба наша не идет, а стоит или даже лежит, как известный камень. Если же вы в том смысле, «идет» ли она мне как одежда – например, как кепка, – то и в этом случае наша служба никому не идет, она определенно портит человека. Хотя и кепка, конечно, не столько «идет», сколько, скорее, «сидит». Ну да ладно. Служба у нас, сами знаете, тяжелая. Я чувствую себя, как загнанная лошадь. Впрочем, пристреливать меня еще не пора, как опять же говаривал мой отец в таких случаях.
Отец фрау Маршалик был довольно известным актером, режиссером и даже директором театра. После смерти матери ей как единственной дочери пришлось вести все его хозяйство, и не только хозяйство: она была у него «прислугой за все». Поэтому она с юных лет знала в театральном мире все и вся, включая самых выдающихся артистов, сама при этом не помышляя о карьере режиссера или актера. Так, про великого Кортнера она знала уникальнейшие истории и рассказывала их бесподобно.
– Я вас назвала Герстенфельдером? Извините. Я знаю, что ваша фамилия Кессель. Мало того: я сразу вспомнила, что вы – Кессель. Но я как раз заканчивала письмо Герстенфельдеру и поэтому опять перепутала.
– Скажите, – поинтересовался Кессель, – а Герстенфельдера вы тоже иногда называете Кесселем?
– Нет, – сказала фрау Маршалик, – Кесселем нет. Но, когда он был у меня последний раз, я все время называла его Пуруккером – и вспомнила, как его зовут, лишь после его ухода. Но все-таки: что вас ко мне привело?
– Ах, да, – начал Кессель.
– Хотя, конечно, – прервала его фрау Маршалик, – я могла и не спрашивать. Что может привести автора в редакцию радио, дорогой мой господин Герстенфельдер? В самом деле глупый вопрос.
– О, нет, – хотел возразить Кессель.
– Нет-нет, вопрос действительно глупый, – продолжала фрау Маршалик, – Мой покойный отец в таких случаях говаривал: «жизнь на девяносто процентов состоит из глупых вопросов, и умного человека можно отличить только по тому, что он лишь на половину из них дает глупые ответы». Вы знаете историю о том, как Кортнер женился? Не знаете? Служащий загса спросил его: «Господин народный артист Фридрих Кортнер, согласны ли вы взять в жены присутствующую здесь госпожу Иоганну Хофер?» – Кортнер (мрачно): «Дурацкий вопрос! Зачем же еще я сюда явился?» (Голос Кортнера спародировать нетрудно, это может каждый. Но фрау Маршалик умела не только это: она пародировала и голос служащего загса).
– Ну ладно, перейдем к делу, господин Герстенфельдер – начала было фрау Маршалик и хлопнула себя по лбу: – Я уже совсем спятила. Какой же вы Герстенфельдер, когда вы Кессель! Принесли что-нибудь новенькое?
– Фрау Маршалик, вам знакомо такое название – «Бутларовцы»?
– Нет, – удивилась фрау Маршалик, – а кто это?
– Слава Богу, что эта история еще не известна Дюрренматту, а то бы мне нечего было вам рассказывать. Была такая Ева фон Бутлар, высокородная дворянка из Эшвеге под Гессеном – дело было в восемнадцатом веке. Она была фрейлиной герцогини Саксен-Эйзенахской. В один прекрасный день эта фрейлина – ей тогда еще не было тридцати – взяла и развелась со своим мужем. Разразился придворный скандал, и ей пришлось удалиться в свое поместье Аллендорф, неподалеку от Касселя. Там она вместе с двумя приятелями – кстати, не дворянами! – одного звали Винтер, другого – Аппенфельдер, и двумя приятельницами, барышнями фон Калленберг, основала кружок под названием «Филадельфийский социетет». Начитавшись разных сочинений о конце света и о духовном браке, она сочла себя провозвестницей нового мистического учения, которое и стало философской основой этой, так сказать, первобытной коммуны. Однако это было только начало. Уже несколько месяцев спустя ее литературно-философский кружок, собиравшийся раз в неделю за чашкой чая, превратился в то, что сегодня принято называть «групповым сексом», правда, конечно, далеко не в столь разнузданной форме, как у теперешней беспринципной молодежи, а по-простому: назад к природе, к единению душ и тел как первооснове бытия.
– Неужели вы сами это сочинили, господин Герстенфельдер? – восхитилась фрау Маршалик.
– Ну что вы, – возразил Кессель. – Если хотите, могу показать вам ксерокс статьи из журнала «Вопросы истории богословия». Копию я снял в городской библиотеке. Как вы понимаете, сам я таких журналов не выписываю.
Фрау Маршалик рассмеялась.
– Однако это еще не конец, – неумолимо продолжал Кессель. – Кружок в Аллендорфе просуществовал два года, пока их кто-то не заложил. Членов кружка обвинили в безнравственности и святотатстве и выслали из Касселя. Тогда они перебрались в Засмансхаузен – где это, я еще не успел выяснить, – и там тоже нашли единомышленников. Однако и тут бутларовцы пробыли недолго: их чуть не арестовали и они бежали в Кельн. Там Ева фон Бутлар вместе со своими друзьями перешла в католичество…
– Это ужасно интересно! – воскликнула фрау Маршалик.
– Впрочем, всех перипетий, которые пришлось пережить бутларовцам, я пересказывать не буду, это отняло бы слишком много времени, – продолжал Кессель. – В конце концов в Альтоне их арестовали и отдали под суд. Но самое интересное, что после этого Ева фон Бутлар вернулась к своему бывшему мужу и вышла за него замуж, как будто ничего не случилось. Остаток дней они прожили в мире и согласии.
– Потрясающий сюжет, – вздохнула фрау Маршалик. – Хорошо, я согласна: пишите заявку и приходите.
Однако такого стреляного воробья, как Кессель, на трюке с заявкой провести было трудно. Расстегнув молнию на куртке до середины, он извлек из кармана четыре листа бумаги, сложенных пополам вдоль, и передал их фрау Маршалик.
– А-а, господин Пуруккер, я вижу, у вас уже есть заявка.
На это Кессель тоже никак не отреагировал. Надев очки, фрау Маршалик принялась бегло просматривать заявку. Кессель в это время считал квадратики на обращенной к нему стороне ее письменного стола. Если получится нечетное число, загадал Кессель, она примет заявку. Квадратиков оказалось пятнадцать.
– Будь я директором театра, – сказала фрау Маршалик, снимая очки и кладя четыре кесселевских листка себе на колени, – я бы немедленно потребовала, чтобы вы никому больше не рассказывали о бутларовцах и как можно скорее представили мне сценарий. Я уже вижу эту пьесу: строгая историческая достоверность пополам с тонкой иронией и элементами детектива. Тем более, я ведь знаю, что вы это можете, господин… господин Кессель.
– Но вы – не директор театра, – продолжил ее рассуждения Кессель.
– Видите ли, господин Кессель, – сказала фрау Маршалик, – на радио, во всяком случае в нашей редакции, действует одна печальная закономерность: чем лучше вещь, тем меньше у нее шансов пройти в эфир. И как вы думаете, почему? Сейчас я вам объясню.
– Потому что это слишком дорого?
– Ничего подобного. Мы, и вообще радио, как черт ладана, боимся вещей слишком хороших. Тут как в провинциальном театре: поставишь один раз гениальную вещь, а потом от тебя всю жизнь будут ждать того же. Все остальное будут сравнивать только с этим! Нет, скажу вам откровенно: мы должны и даже обязаны держать публику буквально на голодном пайке. Вчера (но это, разумеется, между нами) у нас была летучка, на которой главный сказал, – фрау Маршалик взяла тоном выше и воспроизвела начальственную гнусавость своего главного редактора: «И помните о нашем девизе – эти три буквы следовало бы высечь золотом на фасаде Дома радио: ДСР – „деньги, свобода, реклама“ или „дом, семья, развлечения“, если хотите. Веселенький мюзикл, набросанный небрежными мазками – вот тот идеал, к которому мы должны стремиться». – И закончила своим обычным тоном: – Вы сами понимаете, что этот ваш материал о бутларовцах, увы, никак не укладывается в схему веселенького мюзикла.
– Из этого тоже можно было бы сделать мюзикл, – предложил Альбин Кессель.
– Вы шутите, господин Герстенфельдер? – возмутилась фрау Маршалик.
– Шучу, – вздохнул Кессель, – конечно, шучу.
– Жаль было бы портить такой материал, – сказала фрау Маршалик и поднялась с места. Кессель тоже встал. Ни одного автора, если он, конечно, не был законченным графоманом, здесь не принято было отпускать несолоно хлебавши, то есть ему никогда не говорили прямо, что его материал не пойдет – Я оставлю себе копию, если позволите – И она крикнула в соседнюю комнату: – Фрейлейн Люпус, сделайте, пожалуйста, ксерокс заявки господина Герстенфельдера, тут всего четыре страницы. В двух экземплярах!