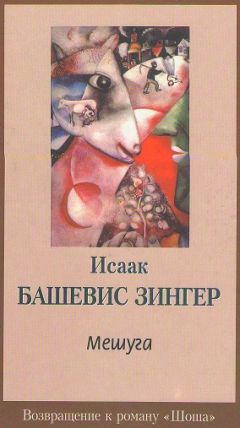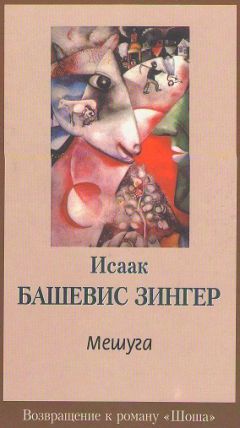— Имеет, имеет, — сказал Макс. — Но я не ревнив. Мне самому нравится Аарон. Он знает о Польше и Варшаве меньше, чем одну сотую того, что знаю я. Откуда ему знать? Родился в каком-то маленьком бедном штетл[40], в нищей деревне. Он настоящий провинциал. Сидит за своим столом и выдумывает. Но его выдумки стоят больше, чем мои факты. В Гемаре говорится, что после того, как Храм[41] был разрушен, пророчества были отобраны у пророков и отданы безумцам. А поскольку писатели — известные безумцы, то дар пророчества достался им тоже. Откуда молодой выскочка вроде него может знать, как говорил мой отец, или мой дед, или моя тетка Гененделе? Можете быть уверены, он еще нас опишет, придумав то, чего никогда не было, делая из нас идиотов.
— Пускай. Ему не надо придумывать — я сама расскажу ему все, — сказала Мириам.
— Все? — взревел Макс.
— Да, все.
— Прекрасно, значит, я уже приговорен. Что бы в этой Америке ни говорили, я уже вырыл себе яму. Пусть он рассказывает обо мне все, что захочет. После моей смерти вы оба можете разрезать меня на куски и скормить собакам. Но пока я еще жив, я привел гостя к моей девушке и хочу, чтобы она встречала его должным образом. Надень какие-нибудь туфли и убери кастрюлю, стоящую на полу. Зачем ты ее там оставила — для мышей?
— Я шла за водой для каучукового дерева.
— Куда ты шла, а? Давай, я помогу тебе навести порядок. Это квартира, а не свинарник, ты просто дикарка.
— А ты кто, граф Потоцкий[42]? — спросила Мириам. — Ты даже еще не поцеловал меня.
— Ты не заслужила поцелуя. Иди!
Макс раскинул руки, и Мириам кинулась к нему в объятия.
— Вот так!
Я не мог поверить своим глазам. За десять минут Макс и Мириам убрали обе комнаты, поставили все на место, и вскоре квартира стала чистой и опрятной. Мириам расчесала волосы и надела туфли на высоких каблуках, сделавшись выше и стройнее. Когда она целовала Макса, ей пришлось встать на цыпочки, а ему — наклонить голову. Стоя в его объятиях и обнимая его, она бросила мне веселый, флиртующий взгляд. Мне показалось, что в ее взгляде было что-то насмешливое и обещающее. Боже правый, подумал во мне писатель, этот день оказался необычайно длинным и богатым событиями. Вот такой и должна быть литература, наполненной действием, без пустых мест, остающихся для штампов и сентиментальных размышлений. Я слышал много хорошего о Джойсе, Кафке и Прусте, но я решил, что не буду следовать путем так называемой психологической школы или потока сознания. Литературе стоит вернуться к стилю Библии или Гомера: действие, беспокойство, образность — и только чуть-чуть игры воображения. Но могло ли такое решение привести к положительному результату? Не была ли моя действительность и действительность других, таких же как я, слишком парадоксальной?
Я чувствовал, что меня все больше опьяняют сигары Макса, кофе, который нам приготовила Мириам, наш разговор. Я спрашивал Мириам о ее жизни, и она отвечала охотно, коротко, с детской простотой. Родилась? — В Варшаве. Училась? — В идишистской школе, в частной гимназии, в Хаватцелет — польско-ивритской высшей школе. Ее отец принадлежал к партии Фолвист[43]. Он был идишистом, а не сионистом. Но, тем не менее, каждый год вносил деньги в Еврейский Национальный фонд. Ее дед (отец ее отца) был землевладельцем; у него были дома на улицах Лешно, Гржибовска и Злота. Отец ее матери был хасидом рабби[44] Гура и владельцем винной лавки. Сколько детей было в семье? Только двое — старший брат Моня, который погиб в Варшавском восстании, и Мириам. Подружки звали ее Марилка, иногда Марианна. Когда разговор коснулся варшавского Клуба Писателей, Мириам сказала:
— Я была там только один раз. Моя мать пошла покупать билеты на лекцию и взяла меня с собой. Мой учитель был членом Клуба, и он обедал в комнате, через которую мы проходили. Когда он нас увидел, то все бросил и показал нам дом, словно это был музей. Мне было тогда девять лет, и я уже читала книги на идише. Не только учебники, но и книги для взрослых. Мать выругала меня. Она сказала: «Если ты будешь читать эти книги, то раньше времени состаришься. Кроме того, забудешь польский». Я обещала не читать их, но как только она вышла из моей комнаты, снова взялась за них. Что я читала? Шолом Алейхема, Абрахама Рейзена, Шолома Аша, Гирша Номберга, Сегаловича. Мы выписывали «Литерарише Блеттер»[45], и, став старше, я читала ее тоже. Ежедневные газеты мы читали и выбрасывали, но литературные журналы отец всегда сохранял. Роман, который вы перевели, был включен в приложения к «Литерарише Блеттер», и в нашем доме были все номера. Мой учитель — Шидловски его фамилия — познакомил меня со всеми в Клубе Писателей. Я была такая наивная, что думала, что все они давно умерли. Но в тот день мне довелось увидеть многих из моих любимцев живыми и даже еще не старыми. Они сидели и ели куриную лапшу. С вашими сочинениями я начала знакомиться позже, уже здесь, в Америке. Как только я прочла первую главу, то сказала…
— Не захваливай его! — прервал ее Макс. — Он будет наслаждаться твоими комплиментами до тех пор, пока не раздуется и не лопнет. Писатель как лошадь: дашь ей торбу овса, она сожрет торбу; если дашь две, она проглотит и две. В хозяйстве моего отца не раз бывало, что лошадь объедалась свежей травой и вскоре подыхала.
— О, какие гадости ты говоришь! — укоризненно сказала Мириам.
— Это правда! Аарон может подумать, что я завидую его славе, но я желаю ему в тысячу раз большего успеха. Много кем я хотел бы быть, но только не писателем — становиться писакой — это меня никогда не привлекало.
— Кем вы хотели быть? — спросил я.
— Послушай, если ты будешь обращаться ко мне с этим церемонным «вы», я схвачу тебя за шиворот и спущу с лестницы. Какая вежливость! Говори ясно и нормально «ты» или отправляйся к дьяволу! Если уж наша маленькая школьница не церемонится со мной, то тебе и подавно не следует. Я говорю совершенно открыто, ты и она так близки мне, как если бы ты был моим братом, а она… Ладно, я лучше не буду говорить ерунды. Кажется, ты задал мне вопрос, но я уже не помню, какой.
— Я спросил, кем именно ты хотел быть?
— Кем я хотел быть? Рокфеллером, Казановой, Эйнштейном, даже просто пашой с гаремом, полным красавиц. Но сидеть с карандашом и царапать бумагу — это не по мне. Читать — да. Хорошая книга для меня так же важна, как хорошая сигара.
— Я не знала, что ты мечтал иметь гарем, — сказала Мириам.
— Я мечтал об этом тридцать лет назад, раньше, чем ты, Мириам, выбралась из чрева своей матери. Но теперь, когда у меня есть ты, я больше никого не хочу. Такова горькая правда.
— Почему горькая? — спросила Мириам.
— Потому что это означает, что я стал на тридцать лет старше, а не моложе.
— Бедный Макс. Мы все становимся с каждым днем моложе, лишь он один становится старше. Ты хочешь постоянно молодеть до тех пор, пока в конце концов не станешь младенцем? — спросила Мириам.
— Нет, я хотел бы остановиться на тридцати.
— Ах, пустой мечтатель, — сказала Мириам по-польски.
Темнело. Сумерки заполняли комнату, но никто не поднялся, чтобы зажечь свет. Время от времени Макс затягивался сигарой, и красноватый свет освещал его лицо. Свет блеснул в его глазах, и внезапно я услышал, как он сказал:
— Когда я с вами обоими, я снова молод.
Я и раньше бесчисленное количество раз слышал эти истории, но в передаче Мириам они казались несколько иными. Факты оставались более или менее теми же — в Варшаве были вырыты окопы, даже воздвигнуты баррикады. В то же время для многих оказалось неожиданностью внезапное начало войны в сентябре 1939 года. Много домов уже было разрушено немецкими бомбами. В стране начался голод. Мириам было тринадцать, и они с матерью остались дома одни. Отец Мириам ушел с тысячами других мужчин в сторону Белостока. Эти рассказы были столь знакомы мне, что иногда я даже поправлял Мириам, когда она ошибалась в дате или номере дома. Все это я знал наизусть — голод, болезни, то, как евреев сгоняли в лагеря принудительного труда, пожары, выстрелы, жестокость немцев, безразличие поляков. Актеры пытались ставить пьесы на идише посреди лежавшего в развалинах гетто. Кто-то приспособил подвал под кабаре, в котором состоятельные женщины проводили время, тогда как за стенами убивали людей. Позже, когда квартира Мириам была захвачена, а ее мать отправили в концентрационный лагерь, Мириам была переправлена из гетто в «арийскую» часть города. Бывшая учительница спрятала ее в темном алькове, где хранилась старая мебель, заваленная тряпьем и пачками газет.
Сын консьержки, пустой и хвастливый юноша, шпаненок, узнал, где она прячется. Он заставил ее заплатить ему в качестве взятки деньги, полученные за драгоценности ее матери, которые удалось продать учительнице. Он также заставил ее покориться ему, и когда он пришел к ней, то держал нож у ее горла. У учительницы, старой девы, от испуга и горя случился нервный приступ. Мириам сказала: